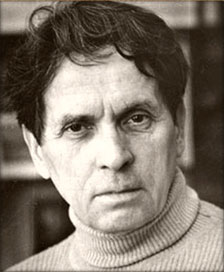Федор Абрамов
Алька
Новостей тетка и Маня-большая насыпали ворох. Всяких. Кто женился, кто родился, кто помер… Как в колхозе живут, что в районе деется… А Альке все было мало. Она ведь год целый не была дома, а вернее сказать, даже два, потому что не считать же те три-четыре дня в прошлом году, что на похороны матери приезжала.
И вот тетка и Маня-большая только замолчат, рот закроют, а она уж их теребит снова:
– Еще, еще чего?
– Да чего еще… – пожимала плечами Анисья. – Вот клуб строят новый. Культурно жить, говорят, будем…
– Слышала! Сказывала ты про клуб.
– Ну тогда не знаю… Все кабыть…
Тут Маня-большая – она тоже немало поломала свою старую голову, чтобы угодить гостье, – догадалась наконец разговор перевести на другую колею.
– Все нас да нас пытаешь, – сказала Маня, – а ты-то как живешь-можешь в своем городе?
Алька блаженно, до хруста в плечах потянулась, почесала голой пяткой гладкий, с детства знакомый сук в половице под столом, потом разудало тряхнула своим рыжим, все еще не просохшим после бани золотом.
– Ничего живу! Не пообижусь. Девяносто рэ чистенькими каждый месяц, ну, и сотняга – это уж само малочаевые…
– Сто девяносто рублей? – ахнула Маня.
– А чего? Я где работаю-то? В районной столовке или в городском ресторане? Филе жареное, жиго, люля-кебаб, цыплята-табака… Слыхала про такие блюда? То-то! А подать-то их, знаешь, как надо? В твоей столовке районной кашу какую под рыло сунули – и лопай. А у нас извини-подвинься…
Тут Алька живехонько выскочила из-за стола, переставила с подноса на стол все еще мурлыкающий самовар, чашки, и стаканы – на поднос, поднос на руку с растопыренными пальцами и закружилась, завертелась по избе, ловко лавируя между воображаемыми столиками.
– А задок-от, задок-от у ей ходит! – восхищенно зацокала языком Маня. – Кабыть и костей нету.
– А уж это у нас обязательно! Чтобы на устах мед, музыка в бедрах. Нам Аркадий Семенович, наш директор, так и говорил: «Девочки, запомните, вы не тарелки клиенту несете, а радость».
Алька еще раз показала, как это делается, затем, довольная, с пылающими щеками, опустила на стол поднос с чайной посудой (только сейчас стаканы звякнули), разлила остаток вина по рюмкам.
– Давайте за Аркадия Семеновича! Во мужик – закачаешься! Бывало, выстроит нас, официанток, в зале, покамест в ресторане народу нет, сам за рояль и давай команды подавать: «Девочки, задиком раз, девочки, задиком два…», «А теперь, девочки, упражнение на улыбку…». Сняли. За насаждение порочных нравов… в советском быту… Теперь у нас такой зануда директор – выше колена юбку не подними. Не по кодексу. Я, кажись, скоро стрекача задам. К летчикам, наверно, подамся. По городам летать…
– А Владислав-то Сергеевич как? – спросила Майя.
– Чего Владислав Сергеевич?
– Ну, в части препятствий… Жена с молодыми мужиками…
Алька быстро взглянула на густо покрасневшую тетку и сразу все поняла: это она, тетка, скрыла от всех, что Алька не живет с Владиком. Скрыла, чтобы избежать пересудов.
Но Алька не любила хитрить, как ее покойница мать, а потому, хоть тетка и делала ей знаки глазами, рубанула сплеча:
– Не живу я с Владиком. Рассчитала на все сто и даже с гаком.
– Ты? Сама? – У Мани от удивления даже нижняя губа отвисла. Точь-в-точь как у Розки, старой кобылы-доходяги, на которой в последнюю зиму перед болезнью отец возил дрова для сельпо.
– А чего? Он шантрапа, алиментщик заядлый, а я чикаться с ним буду, да?
– Кто алиментщик? Владислав-то Сергеевич алиментщик? – еще пуще прежнего удивилась Маня.
– Ну! Да еще алиментщик-то какой! Двойной. Я сдуру-то, когда он от нас удрал, не сказавши, обревелась. Думаю – все: пропала моя головушка. К евонному начальству в городе прикатила – слова сказать не могу: вот какая деревенская дуреха была! А потом как начальиик-то сказал мне, хороший такой дядечка, полковник с усами, что у Климашина и так двойные алименты, я – дай бог силы– и руками, и ногами отпихиваться стала. Сообразила! До восемнадцати лет ползарплаты платить будет, а мне вприглядку глядеть?
Вдруг голосистая бабья песня ворвалась в избу, от грохота грузовика задрожали стекла в рамах.
Алька кинулась к раскрытому окошку, но машина уже проскочила – только пыль клубилась на дороге.
– Свадьба, что ли, какая? – спросила она у старух.
– Не, то скотницы, – ответила Анисья. – С утрешней дойки едут. С поскотины. Все вот ноне так. Завсегда с песнями.
– А чего им не с песнями-то? – фыркнула Маня. – Деньжища загребают – ой-ой!
– А Лидка Вахромеева, подружка моя, по-прежнему в доярках?
– В доярках. Только теперь она не Вахромеева, а Ермолина.
– Кто – Лидка не Вахромеева? Дак чего же вы молчали?
– Да я писала тебе, – сказала Анисья. – Еще зимусь вышла. За Митрия Васильевича Ермолина.
– Чего-чего? За Митю-первобытного? – Алька расхохоталась на всю избу. – Ну и хохма! Да мы, бывало, с ней первыми потешались над этим Митей!
– А теперь не потешается. Теперь – муж. Хорошо живут. Хорошая пара. А уж Митрий-то – золото!
– Да какое золото! – хмыкнула Маня.
– Нет, нет, не хинь, Архиповна, Митрия! – горячо вступилась за Митю Анисья. – Человек весь колхоз отстроил – шутка сказать! А сами-то они коль дружны, ноне-ка такого и не увидишь. Я тут на днях встретила, к реке идут с бельем, Митя сам корзину несет. Ну-ко, кто из нонешних мужиков женке своей пособит? И вина не пьет…
– А все равно недотепа, мозги набекрень, – твердила свое Маня, и из этого Алька заключила, что старуха не сумела пробить лаз к Мите и Лидке – это уж наверняка, раз она с таким усердием поливает их грязью.
* * *
Алька уже выбегала сегодня на улицу и, как говорится, успела и ноги в утрешней росе прополоскать, и солнышка утрешнего ухватить; а вот как она истосковалась по своей деревне – козой запрыгала от радости, когда спустилась с крыльца.
Ей всюду хотелось побывать сразу: и на горках, за дорогой, у черемухового куста, возле которого она, бывало, с отцом поджидала возвращавшуюся с пекарни усталую мать; и на лугу, под горой, где все утро заливается сенокосилка; и у реки…
Но верх над всем взяла деревня.
Деревни, по сути дела, она еще и не видела. Приехала ночью, в закрытом райкомовском «газике» (чтобы пыли меньше было) – много ли наглядишь? А утром – глаза не успела продрать – Маня-большая. Никто не звал, не извещал – сама приперлась. Просто нюхом своим собачьим учуяла, где задарма выпить можно.
Первый человек, которого встретила Алька на улице, была Аграфена Длинные Зубы. Соседка. Через дом от тетки живет. В детстве, случалось, и вицей ее драла, злая, ухватистая старуха. А тут – просто потеха! – не признала. Потыкала, пожевала ее своими оловянными глазищами, а голосу так и не подала. Штаны сбили с толку?
Штаны у нее – шик. Красные, шелковые – прямо огонь на ногах переливается. Да и все остальное, кстати сказать, – первый сорт. Белая кофточка с глубоким вырезом на груди, туфли модные на широком каблуке, сумочка черная, ремешок через плечо – чем не артистка?
Завидев дом Петра Ивановича – как белопалубный пароход выплыл на повороте дороги, – Алька подтянулась.
Хоть и никогда она не заискивала и не лебезила перед этой старой лисой, а все-таки и она в Летовке родилась: знала, кто Петр Иванович.
Но, господи, разве обойдешь, объедешь в страдную пору ихнюю Лампу? Вынырнула из полевых ворот с большущим кузовом травы – в небо упирается, как сказала бы мать.
Босиком, в бабьем платье до пят, вся употела, ужарела, ну как тут не признать свою учительницу!
Да, вот так: Гагарин шар земной вокруг облетел и помереть успел, американцы на Луну слетали, она, Алька, бабой стала, а ихняя Лампа без перемен: как шлепала с кузовом травы десять-пятнадцать лет назад, так шлепает и сейчас. Правда, укорять Евлампию Никифоровну за то, что она всю жизнь возится с коровой, может, и не стоит – тяжело, голодно жили после войны. Но ведь сейчас не старые времена. Сейчас колхозники, и те не очень-то за буренку держатся, а ведь она учительница – ей ли всю жизнь из навоза не вылезать?
Алька вспомнила про черные очки в белой пластмассовой оправе – Томка перед отъездом навязала – быстро вынула их из сумочки, надела на глаза, напустила на себя строгость и двинулась к Евлампии Никифоровне – та как раз пристроилась к изгороди на передышку, одной рукой кузов с травой поддерживая, а другой по-бабьи, головным платком вытирая свое запотелое лицо.
– Гражданка, вы что же это? Ай, ай, ай! Нехорошо!
– Да чего нехорошо-то? Не знаю, как вас звать, величать…
– Траву нехорошо с колхозного луга таскать.
– Да я вовсе и не с луга. Я закраишек у полей маленько покочкала, – начала жалостливо канючить Евлампия Никифоровна. Ну точь-в-точь как деревенская баба, которую поймал с травой председатель колхоза.
Алька кашлянула для важности, нажала на басы:
– Какой пример колхозникам подаете, товарищ Косухина?
– Нехороший, нехороший пример. Это вы правильно сказали. Учту…
– То-то же! А то ведь можно и оштрафовать. Понятно вам?
Тут уж Евлампия Никифоровна начала просто расстилаться перед грозным начальством:
– Понятно, как не понятно. Ну вы-то учтите, уважаемая, – болею я. А травка-то у нас далеконько, а коровушка-то у меня молодая, без травки и не подоить…
– Ладно, товарищ Косухина. Только чтобы это последний раз.
– Последний, как не последний. Все будет сделано, как говорите. Сама не буду ходить и с другими работу проведу…
Больше Алька выдержать не могла – так и схватилась за живот, а потом сняла очки и как ни в чем не бывало сказала:
– Здравствуйте, Евлампия Никифоровна.
Евлампия Никифоровна с минуту, наверно, перебирала своими толстыми, потрескавшимися от жары губами. Наконец разродилась.
– Все безобразничаешь, Амосова. – Она ни разу в жизни не назвала ее по имени.
– Да это я в шутку, Евлампия Никифоровна. Смех, сказал Хо Ши Мин, тот же витамин.
Евлампия Никифоровна потянула воздух носом.
– А напилась тоже в шутку?
– Да что вы, Евлампия Никифоровна… Вот, ей-богу, нельзя уж и привальное справить да маму с папой помянуть.
– Родителей не так, Амосова, поминают. Родители у тебя труженики были. Пример для всех…
– А я что – не труженица? Тунеядка какая? Не сама хлеб зарабатываю?
Евлампия Никифоровна строгим учительским оком оглядела Альку, задержалась взглядом на ее красных, жарких, как пламя, штанах.
– Моральности не вижу, Амосова. Моральный кодекс строителя… Ну да ты еще в школе не больно честь девическую берегла…
Алька крепко, так, что слезы из глаз брызнули, закусила нижнюю губу, затем живо кивнула на двух работяг из смехколонны – так прозвали у них за пьянство мехколонну, которая еще в ее бытность в деревне начала ставить столбы для электросети, да так до сих пор и ставит.
– Это что, Евлампия Никифоровна, электричество у нас будет?
– Электричество, Амосова, – назидательно сказала Евлампия Никифоровна. – Колхозная деревня за последние годы добилась больших успехов…
– Значит, и у нас скоро будет лампочка Ильича?
– Будет, Амосова.