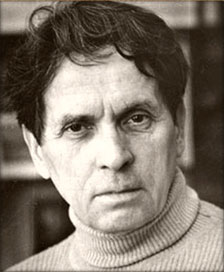неопределенного цвета хлопчатобумажный плащишко на Евстолии потемнел, мокрый подол платья стал оплетать толстые, нездоровые ноги, но разве ей было сейчас до этих пустяков?
– Я не знаю, не знаю, что мы за люди, – все больше и больше распалялась она. – Весь век на нас какие-то прилипалы да огарыши ездят. Почто? По какому праву? Почто человеками-то мы не можем быть? Катерина вчера с коровушек, с коленей на ноги встала – дак вся природность возликовала. Помнишь, какой денек-то вечор был? Солнышко, кажный листышок играет, кажная птичка жизнь славит. Вот бы рай-то и спустился с неба на землю, кабы мы людями были. А то ведь она раз, один раз за все пятьдесят лет человеком была. А почто? Горди, евонного отродья не стоит? Да они Катерининого-то ногтя не стоят. Вот природность-то и отвернулась от нас. Вишь, как поливает. И солнышко за тучи скрылось. Стыдно ему за нас стало, потому и скрылось. Кой черт, я стараюсь, стараюсь для них, а они сами палец о палец не ударят. Ну вас к дьяволу, надоели вы мне! Ох, кака бы язнь, кака бы жизнь у нас была, сколько бы этой красы-то на земле было, кабы Катерина набралась смелости да всем этим сволочам вместе с Гордей в рожу плюнула! Хватит! Буде, поездили на мне, а тепере я буду командовать, раз вы ни черта не можете.
К этому времени мы уже подходили к лодке, по металлическим плоскостям которой гулко барабанил дождь, и Евстолия распалилась уже до предела:
– Чего все молчишь? – Это уже за меня она взялась. – Еще писателем называешься. Я не байки сказываю, не потешки пою. Юрмолу-то до чего довели – на ладан дышит. Бабы ко мне о первом май заходили, еще тогда говорили: «Нам уж разве писателя просить. Он разве поможет. А то к смерти приговорили: свет не проводят, телят из Юрмолы угнали, а теперь и нас скора выгонять будут». А писатель, на-ко, посидел, попил да к бабке на поветь, во сена душистые. На отдох. Разве умер бы, кабы с людями поговорил? Вчерась тебя спохватились: где писатель, где писатель? Ну и я со стыда сгорела, скрозь землю готова провалиться…
Мы не сразу спихнули лодку – нос ее глубоко всосало в разжиженный дождем песок. А потом Евстолия, вся мокрая (я тоже был мокрый с головы до ног), села ни скамейку, широкой спиной ко мне, и уже до самого домашнего берега не проронила ни слова.
1975–1980
Всех знаю в своей деревне – старых, молодых, даже детей, если не по именам, то по обличью. А тут, смотрю, гребется какой-то старичешко от почты по пыльной песчаной обочине. Кто? Сапоги кирзовые, громадные, оттого что высохшие ножонки торчат в стоячих голенищах, как палки, батог в руке, сверкающий на солнце…
Подхожу ближе и глазам не верю: Павел Васильевич Савин.
Похудел, высох, глаза завалились, будто с того света смотрят… А борода? Где савинская борода? Еще какой-то год назад взобьет, распушит, расправит – целая копна на груди.
А какой он в молодости был, этот Павел Васильевич! Какая силушка, какая удаль гуляла по земле! Весной у нас, когда схлынет половодье да в Пинегу выпустят лес, самое ухарство – перебежать с багром в руках с одного берега на другой по плывучим бревнам.
Перебегал.
А что за диво, что за картина – я тогда был еще совсем-совсем ребятенком, – когда он ехал за невестой! В жизни не видал такой бешеной скачки допьяна напоенных рысаков в праздничной, жаром горящей сбруе. Мороз, солнце, а он в расписных сапках, стоя, в одной кумачовой рубахе, без шапки. Само нетерпенье, сама ярость.
– Павел Васильевич, – спрашиваю, – да ты ли это?
– Я, парень, я. Всё боле, на другую фатеру приказано перебираться.
Я стал говорить какие-то слова утешения.
– Нет, нет, не утешай – отгулял свое. На почту это ходил. Деньги на похороны сымал. Было шестьсот рублей накоплено, все снял. Не хочу, чтобы дети на меня разорялись. И хочу проститься с земляками по-хорошему: чтобы все, кто придет, были угощены… Чтобы все запомнили, как последний старик деревни уходит на покой…
Я не удивился словам Павла Васильевича. Оставались еще в деревне три-четыре старика. Но последним-то стариком деревни называли только его Павла Васильевича. Он был из той уходящей породы русских мужиков, которые умели и жить с размахом, и работать всласть, и чудить.
Павел Васильевич умер в тот же день, под вечер, когда садилось солнце.
Всю весну и все лето лежал на своей старинной деревянной кровати возле дверей, а тут вдруг запросился на пол.
Дети (сыновья и дочери к тому времени уже съехались) исполнили просьбу – разостлали на полу, там, где стоял обеденный стол, перину, перенесли отца.
– А теперь Матрёна пущай ляжет рядом со мной. Сыновья и дочери переглянулись: что еще выдумал старик?
– Матерь, говорю, рядом повалите.
Матрена сидела в старом ватнике, прислонившись спиной к теплой печке. Когда-то это была писаная красавица, и Павел Васильевич смертным боем бился из-за нее со своими много-численными соперниками, да и потом, когда уже был в годах, обожал ее. «У меня Матрёнка… Моя Матрёнка… Я с Матрёнкой…» это был любимый, его разговор, и пьяного и трезвого.
А сейчас Матрёна, когда заговорил о ней муж, даже ухом не повела: она уж года три была не в своем уме.
– Папа, – заговорила старшая дочь осторожно (Павел Васильевич в строгости держал детей), – зачем тебе мама-то? Нехорошо ведь.
– Повалите, говорю, рядом со мной матерь.
Сыновья и дочери опять переглянулись, и что делать, как перечить умирающему отцу?
– Матрёнка, – сказал Павел Васильевич, когда старуху положили с ним рядом, – обними меня в последний раз.
Матрёна, к которой в эту минуту, видимо каким-то чудом, вернулся рассудок, неловко, суковатыми руками обхватила мужа.
– Вот и ладно, – прослезился Павел Васильевич. – А теперь оставь меня одного, я помирать буду.
И вскоре на глазах у всех умер.
Хоронили Павла Васильевича всей деревней. Все шли за гробом – и стар и мал. Все провожали в последний путь своего последнего старика.
1980
ЗОЛОТЫЕ РУКИ
В контору влетела как ветер, без солнца солнцем осветило.
– Александр Иванович, меня на свадьбу в Мурманск приглашают. Подруга замуж выходит. Отпустишь?
– А как же телята? С телятами-то кто останется?
– Маму с пенсии отзову. Неделю-то, думаю, как-нибудь выдержит.
Тут председатель колхоза, еще каких-то полминуты назад считавший себя заживо погре-бенным (некем подменить Марию, хотя и не отпустить нельзя: пять лет без выходных ломит!), радостно заулюлюкал:
– Поезжай, поезжай, Мария! Да только от жениха подальше садись, а то чего доброго с невестой нерепутает.
Председатель говорил от души. Он всегда любовался Марией и втайне завидовал тому, кому достанется это сокровище. Красавицей, может, и не назовешь и ростом не очень вышла, но веселья, но задора – на семерых. И работница… За свои сорок пять лет такой не видывал. Три бабенки до нее топтались на телятнике, и не какая-нибудь пьяная рвань – семейные. И все равно телята дохли. А эта пришла – еще совсем-совсем девчонка, но в первый же день: «Проваливайте! Одна справлюсь». И как почала-почала шуровать, такую революцию устроила – на телятник стало любо зайти.
Мария вернулась через три дня. Мрачная. С накрепко поджатыми губами.
– Да ты что, – попробовал пошутить председатель, – перепила на свадьбе?
– Не была я на свадьбе, – отрезала Мария и вдруг с яростью, со злостью выбросила на стол свои руки: – Куда я с такими крюками поеду? Чтобы люди посмеялись?
Председатель ничего не понимал.
– Да чего не понимать-то? Зашла на аэродроме в городе в ресторан перекусить чего, думаю, два часа еще самолет на Мурманск ждать, ну и пристроилась к одному столику – полно народу: два франта да эдакая фраля накрашенная. Смотрю, а они и есть перестали. – И тут Мария опять сорвалась на крик: – Грабли мои не понравились! Все растрескались, все красные, как сучья – да с чего же им понравятся?
– Мария, Мария…
– Всё! Наробилась больше. Ищите другую дуру. А я в город поеду красоту на руки наво-дить, маникюры… Заведу, как у этой кудрявой фрали.
– И ты из-за этого… Ты из-за этих пижонов не поехала на свадьбу?
– Да как поедешь-то? Фроська медсестрой работает, жених офицер сколько там будет крашеных да завитых? А разве я виновата, что с утра до ночи и в ледяную воду, и в пойло, и навоз отгребаю… Да с чего же у меня будут руки?
– Мария, Мария… у тебя золотые руки… Самые красивые на свете. Ей-богу!
– Красивые… Только с этой красотой в город нельзя показаться.
Успокоилась немного Мария лишь тогда, когда переступила порог телятника.
В семьдесят пять глоток, в семьдесят пять зычных труб затрубили телята от радости.
1976
Вышел на улицу, глянул в верхний конец – кто там пылит, клюкой на солнце размахивает?
Федосеевна. И разряжена в пух и прах: в старинном ярком сарафане, который, может, сохранился еще от приданого, в голубой шелковой кофте с белыми нашивками по подолу – тоже прежнего завода.
– Куда это с утра вынарядилась?
– За пачпортом. Из сельсовету вечор прибежали, чтобы за пачпортом в район ехала. Я говорю: что вы с ума-то сходите? Какой мне пачпорт помирать надоть. Алe на том свете ноне порядки новые – без пачпорту и ходу нету? Всем, до последнего человека, говорят, пачпорта получать. Вот и собралась. Надо приказ сполнять.
– А не рано собралась-то? Автобус-то когда приходит?
– Ничего. У почты посижу. Тепло ноне. Не могу дома-то жить. Всюю ноченьку глаз не сомкнула. Все вспомнила, по всей жизни прошлась. И как у отца с матерью в бедности вырас-тала, и как в колхозе робила, и как войну пережили. Три похоронки на одном году пришло – каково, думаешь, мне было? На Петю, на Владимира, на Павла – и все в сорок пятом году. Вот как война-то нас шарахнула напоследок.
А что, надоть как-то жить. Да надоть наследника але наследницу смекать. Мужик весь приохался: «Вот помру, и весь род-корень чемакинский искурится».
В сказке вон старик взял полешко да вырезал Ольшанка – вот