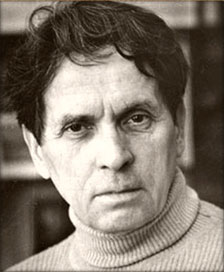назло всем ходил по передней улице мимо райкома. Смотрите! Не боюсь!
И вот однажды, когда он так среди бела дня напоказ рысил мимо райкома, оттуда вдруг вышел секретарь со своим синклитом.
– Стрельников, чего не здороваешься?
– А чтобы не подумали, что подлизываюсь к вам, – с вызовом ответил Стрельников.
– Вот как! – усмехнулся секретарь. – Ну коли ты не хочешь подойти, я сам к тебе подойду, – и на виду у всех через грязную дорогу пошлепал к Стрельникову.
Подошел, протянул руку:
– Правильно выступил. Мы действительно подзабыли, для чего живем Я, брат, из беспризорников и знаю, что такое голод. Работай. Но серость свою не показывай. Со старшими надо здороваться.
1969
У Косовых дом разодет, как невеста. На веревках вокруг дома развешаны яркие шелковые платья, задорно переливающиеся на солнце, всевозможные шали, полушалки, платки, ситцевые и шерстяные отрезы, одежда верхняя, обувь, меховые шапки.
По-старинному сказать – это сушка нарядов, от моли, от мышей, но в то же время это и смотр благосостояния семьи, приданого дочерей. И надо ли говорить, что Дарья Леонтьевна, хозяйка всего этого великолепия, сияет с головы до ног! Это ведь она все нажила, своими рученьками нажила двенадцати лет от родителей осталась.
Я от души радуюсь вместе с Дарьей Леонтьевной и с удовольствием обхожу весь этот пестрый, пахучий парад и вдруг на видном месте, возле самого крыльца, замечаю два старых, растоптанных, без подошв черных валенка.
– А эти молодцы как сюда попали?
Дарья Леонтьевна молодо смеется.
– А от этих молодцов я жить пошла.
– Жить?
– Жить. Мне эти валенки в лесу дали. Первая премия в жизни. И вот жалко, никак не могу выбросить.
Дарью Леонтьевну прошибает слезой.
– Ох, как вспомнишь все свои стежки-дорожки, дак не знаешь, как и на сегодняшнюю дорогу вышла. Мне четырнадцать лет было, когда меня на лесозаготовки выписали. И вот раз прихожу в барак из лесу. «Новый год, говорят, Дарка, завтра у людей». Эх, думаю, и мне надо Новый год отметить. А как? Чем? У нас тогда, в войну, не то что хлеба, картошки-то досыта не было. А давай, думаю, у меня хоть валенки сухие в новом году будут. Положила в печь, легла на нары. Думаю, полежу немножко, выну. А проснулась утром – в бочку железную бригадир коло-тит. Я вскочила, к печи-то подбегаю, заслонку открываю, а у меня от валенок-то одни голяшки. Сгорели. Жарко, вишь, топили печь. Стены-то в бараках худыe – к утру все выдует, куржак в углах-то, зайцы белые.
Я вся в слезах к начальнику лесопункта. Босиком. По снегу, как сейчас помню, – конторка напротив барака стояла. «Так и так, говорю, Василий Егорович, у меня валенки сгорели, что мне делать?» – «А что хошь делай, а чтобы к утру завтра была на работе. А то под суд отдам.
Пошла домой – восемь верст до дому. Из шубы маминой два лоскута вырезала, ноги обернула да так и иду зимой по лесу. Пришла домой, а что возьмешь дома? Катя, сестренка младшая, в детдоме, изба не топлена, на улице теплее.
Вот я села на крыльцо, плачу. Идет старичок, Евграф Иванович, конюхом робил. «Чего, девка, ревешь?» – «Валенки сожгла. Начальник сутки дал, а где я их возьму». – «Ничего, гово-рит, не плачь. Пойдем ко мне на конюшню, что-нибудь придумаем». Вот пришли на конюшню, тепло у дедушки, да я только села на пол к печке, прижалась, как к родной мамушке, и уснула. До самого вечера спала. А вечером меня дедушко Евграф будит: «Вставай, говорит. Ладно, нет, я чего скорестил». Я гляжу и глазам не верю: бурки теплые, эдаки шони из войлока от хомутов старых сшил. Я надела бурки да до самого барака без передышки бежала. В лесу темно, разве звездочка какая в небе мигнет, а я бежу да песни от радости пою. Успела. Не отдадут под суд.
А через полгода, уж весна была, приезжает к нам сам. Секретарь райкома. «Говорите, кто у вас ударник». – «Дарка, говорят. Всех моложе девка, а хорошо работает». – «Чего хочешь? – говорит, это секретарь-то. Чем тебя наградить-премировать за ударную работу на трудовом фронте?» – «А дайте, говорю, мне валенки». – «Будут тебе валенки. Самолучшие». И вот осенью-то мне валенки черные привез. Опять сам. Верный человек был. Раз уж что сказал – сделает.
Я долго их носила. Бережливо. Первые-то пять только как выходные, а потом уж и каждый день, какие у меня эти валенки.
1974
ОТОМСТИЛ
Прошка Сальников, водопроводчик из нашего жэка, в ту пору, по его словам, только-только вставал на колеса, и деньги нужны были позарез.
Во-первых, получил комнатуху (первую в жизни!) – надо худо-бедно оснастить? А во-вторых, жена на развале – тоже расходы. Коляска там, кроватка, бельишко – это самое малое.
Короче, без халтуры не обойтись.
Две недели убивался Прошка за городом – одной старухе сруб для дачки подрядился поставить. Ел всухомяткy, спал три-четыре часа в сутки, да и то в шалашике, а уж октябрь был, и работку сделал на совесть (не растряс еще к тому времени деревенскую дурь). В общем, прини-май, старая, да выкладывай пятьсот рублей, как договаривались.
Прошка кричал, ругался, выходил из себя – но чем докажешь, что такой уговор был? Где бумага?
– Ну ладно, стерва старая, – сказал на прощанье, – спасибо за ученье. Ты меня ободрала как липку, но и тебе не жить в новом доме. Сгоришь!
Ушлая, бывалая старуха нажаловалась в милицию. Но разве он к тому времени не прошел уже всеобуча стервозности у той же самой старухи?
– Впервые слышу. Знать ничего не знаю.
Шло время. Прошка мало-помалу обзавелся самыми нобходимыми досками так на его языке называется мебель, – жене, ребенку дал нужную оснастку, а обида не утихала. Не мог позабыть старухиной наглости.
Но как отомстить? Спалить, как грозился? А суд?
Помог случай. Однажды он сильно порезал руку и, как водится, залил порез марганцовкой, а потом стал заправлять зажигалку, да обмакнул залитый марганцовкой палец в бензин – жаром запылала рука.
Мозги у Прошки заработали: а нельзя ли с помощью этой самой химии вызвать огонь?
Взял бутылку, налил в нее бензина, сыпанул марганцовки, отнес на пустырь.
Опыт удался: ровно через три недели бутылка взорвалась, и на пустыре вспыхнул пожар.
Дальше всё было просто: бутылку с бензином и марганцовкой Прошка подложил под сруб старухиной дачки, и та в положенный срок сгорела.
Претензий, само собой, к нему не было и не могло быть никаких. Никто не видел его в тот день возле старухиной дачки, да к тому же у него было алиби: не пожалел денег, весь день высидел в ресторане.
Но вот русский человек! Мало ему простой мести. Мало того, что сгорела дачка. Надо, чтобы старуха еще от ярости покорчилась на его глазах.
Короче, отправился Прошка к старухе и прямо с ходу: так и так, мол, поняла теперь, как надувать честного человека? Где твоя дача? Сгорела? А кто сжег? Я.
Старуха, как он и ожидал, не поверила, и тогда он неторопливо, со всеми подробностями рассказал, как спалил дачку.
И всё было бы хорошо – закрыто дело, да, на его беду, в соседней комнате (тут он опять дал осечку) сидели две старухиных приятельницы, и вот их-то старуха и выставила свидетелями на суде.
Прошке дали условно два года исправительно-трудовых работ да еще обязали выплатить старухе пять тысяч рублей.
1975
САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ
Нас от отца осталось – полна изба. И все девки. Из мужского-то один Тихон был. А в сусеках горстки муки нету. Матенка день и ночь бьется, потом-кровью обливается, а все ничего, все хлебница пуста.
Ну, долго ли, коротко ли – рассовала нас по людям. Брат Тихон в город ушел, а меня, двенадцать лет было, в монастырь свела. Да подумай-ко, я там, в эдаком-то аду, девять лет выжила. Девять лет на волосатых дьяволов стирала.
Разбудят, бывало, в три часа утра да стой-ко у корыта до восьми вечера. Дак уж напоследок-то стираешь – ничего не видишь и не чуешь, в глазах все так и ходит. Руки щелоком разъест до мяса. Красные. Как лапы у голубя. Жалели мыла-то монахи, все на щелок нажимали. А зимой-то в проруби полоскать! Стужа – хозяин собаку из избы не выгонит, а ты идешь на реку да выпо-лощешь двадцать пять кузовов. Да месяц пройдет, тебе за это рубль и отвалят.
Вот как меня в святых-то местах мытарили. Бывало, матенка придет, поплачет-поплачет да так ни с чем и уйдет: не к чему ведь дома-то прийти.
А что вот: как ни жила, как ни мучилась, а молодо дак молодо и есть подошло воскресе-нье, и нет-нет да и выйдешь куда. Теперь вот смотри, какая ягодка – собаки пугаются, а тогда, видно, не такой была. Идешь где работники глазами едят, по коридору ступишь – монах так и норовит за груди щипнуть, да, бывало, как двинешь в рожу-то волосатую – снопом летит.
Ядрена, ядрена была, не обидел бог здоровьем-то, мешки с мукой в шестьдесят лет вороча-ла, ну а супротив своего старика, тогда-то не старик был, кровь с молоком, не устояла. Поглядом взял. Всех – и монахов, и работников от себя отшвыривала, как щенят, кидала, а тут глазом повел и делай, что хошь, – ни рукой, ни ногой не шевельнуть.
Забрюхатела.
Ну что поделаешь, сама виновата. С мамой посидели-поплакали: такая уж судьба. А чтобы Олексею жалиться, слово сказать – это старику-то моему, мне и в голову не приходило. Из хорошего житья человек, первый жених на деревне – да разве ему с Олениной девкой вожжа-ться? Бесприданница, да еще и ворота на запоре держать не может. Раньше ведь строго было насчет девьей чести, не то что ноне.
А Олексей узнал, что я забабилась, – к родителям: так и так, отец и мати, кроме Олениной девки никого брать не буду.
Те его и лаской и таской, и добром и батогом – горячий отец был, ну Олексей на своем: не быть под моей рукой никому, окромя Окульки.
Отец распалился:
– Ах так! – говорит. – Отец-матерь тебе не указ? Ну дак живи как хочешь. Ничего не дам.
И не