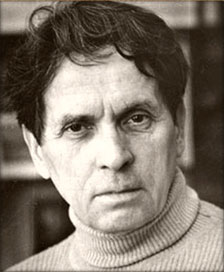большим охотничьим ножом на ремне, в сапогах необыкновенного покроя, за голенищами которых можно было легко спрятать все его личное имущество, он показался себе достаточно внушительным и взрослым.
Выходя на крыльцо, Мишка принял строгий и серьезный вид.
Внизу на песке, пригретая солнышком, рассыпалась босоногая детва. Лизка с засученными рукавчиками, наклонившись над толстым, узловатым чурбаком, стряпала глиняные колобки. Делала она это с великим старанием: потяпает глину руками, поплюет, снова потяпает, потом пересыплет мелким белым песочком и сунет в «печь» — старую, проржавленную железину, одним концом воткнутую в щель стены.
Петька и Гришка, два молчаливых русоволосых близнеца, до того похожие друг на друга, что их вечно путали соседские ребята, подносили ей в баночках воду, — ее они черпали из лужи, заметно ожившей после дождя. Несколько поодаль от Лизки, на песке, сидел ни на кого не похожий в семье, рыжий, как подсолнух, Федюшка. Он был явно не в духе и, надув губы, исподлобья, сердито поглядывал на Лизку. У ног его барахталась довольная, вся вывалявшаяся в песке Татьянка. «Ага, Федор Иванович, — улыбнулся Мишка, — это ты сегодня за няньку!» Когда Татьянка слишком отползала в сторону или, наоборот, назойливо лезла к нему, Федюшка, изловчившись так, чтобы не видела Лизка, хлопал ее по голому задку, но Татьянка только смеялась.
«Вот хитрюга…» — с одобрением подумал Мишка, питавший особое расположение к этому рыжему разбойнику.
— Ну что, мелкота, играем? — снисходительно сказал Мишка, спускаясь с крыльца и щурясь от солнца.
— Иди и ты играть, Миша, — несмело предложили Петька и Гришка.
Мишка недовольно нахмурился. Что они, не понимают, с кем имеют дело? Он подошел к Лизке, носком сапога указал на чурбак, заставленный разными черепками и черепушками:
— А ну убери. Дай посидеть человеку.
— Вот еще, — огрызнулась Лизка, но чурбак освободила.
Мишка важно расселся, по-взрослому закинул ногу на ногу.
Лизка и братья с тревогой и любопытством уставились на него, подошел даже Федюшка, — он, видимо, решил, что сейчас свободен от присмотра за Татьянкой.
Мишка не торопясь вытащил нож и, незаметно поглядывая на малышей, стал срезать на руках ногти. Ребятишки с раскрытыми ртами следили за тем, как он ловко и бесстрашно орудует охотничьим ножищем. И ему льстило это восторженное отношение к его особе. Чем бы еще поразить этих сусликов?
Он достал из кармана гимнастерки щепоть завалявшегося самосада, свернул цигарку и, на глазах изумленных малышей, выбил искру. Вышло, однако, совсем не так, как ему хотелось. С первой же затяжки он закашлялся, слезы показались на его глазах.
— Табак худой, — давясь от дыма, проговорил Мишка, как бы оправдываясь.
— Я вот мамушке скажу, — пригрозила Лизка. — Она тебе покажет, курителю.
Мишка, не ожидавший такой реакции, смутился, но сразу же оправился.
— А мне мамка что… — независимо пожал он плечами. — Я самый сильный в школе.
Он помедлил, стараясь подобрать наиболее веские слова, и вдруг, выпрямившись, приказывающим тоном сказал Лизке:
— Бежи в избу, принеси какую-нибудь нитку!
Та переглянулась с братьями, но ослушаться не посмела. Когда нитка была принесена. Мишка еще выше закатал рукав на правой руке, туго перетянул ее суровой ниткой. Ребята вплотную обступили его, вытянув шеи, ловили каждое его движение.
— Ну, смотрите, мелкота, — сказал довольный Мишка. — Такого во всю жизнь не увидите.
Он напрягся так, что черные густые брови у него сошлись над переносицей, и медленно, скрипя зубами для пущего эффекта, стал сгибать в локте сжатую в кулак руку.
— Раз!
Ребятишки ахнули. Впившаяся в бицепс нитка лопнула.
Мишка встал и с видом человека, привыкшего к восторженному отношению к своим поступкам, лениво цыкнул слюну сквозь зубы.
— Видали? А ты еще — мамке скажу! — пренебрежительно бросил он Лизке.
Малыши вслед за ним с осуждением посмотрели на пристыженную сестру.
— Ну, играйте в свои черепки, да чтобы у меня все тихо! Поняли? — И Мишка важно, вразвалку зашагал на задворки.
Но, сделав несколько шагов, он обернулся, поманил к себе Лизку. Братья несмело потянулись за ней.
— Ты вот что, Лизка… — начал он, с пристальным вниманием разглядывая у ног какую-то палку, — ты лучше мамке-то не говори. Я ведь это так… шутейно.
Но тут Мишке стыдно стало, что он снизошел до упрашивания какой-то мелюзги, и, приняв воинственную позу, он погрозил пальцем:
— Чтоб у меня ни гу-гу! Поняли?
— А ты чего за это дашь? — неожиданно спросил не по годам практичный Федюшка.
— За что?
— А за то, что мамке не будем сказывать.
Мишка присвистнул от удивления, рассмеялся:
— Ты? как Федор Кротик, из всего выгоду норовишь сделать. Ну ладно. На сенокос пойду девкам зайка поймаю, а вам, мужичье, кивнул он ребятам, топорик скую. Идет?
Петька и Гришка, никогда не проявлявшие бурно своих чувств, на сей раз загоревшимися глазами посмотрели друг на друга. Лизка живехонько обернулась к Татьянке — та неуверенно, толчками двигалась от крыльца — и, протянув к ней руки, закивала головой:
— Зайко, зайко у нас с Танюшкой будет.
Один Федюшка не поддался соблазну. Сопя себе под нос, он мучительно соображал, какая доля ожидает его в заключаемой сделке, и, видимо, оставшись недоволен ею, поднял на брата глаза:
— А ты еще один топорик сделай — маленький-маленький.
— Это зачем же?
— Мине… Я первый хотел сказать мамке.
— Ну ты, единоличник! Смотри у меня! — повысил голос Мишка и щегольнул недавно услышанной поговоркой: — Ново дело — поп с гармонью.
Решив, что с малышами все улажено, Мишка отправился по своим делам.
А дела у Мишки известны. Прилепился он всем сердцем к кузне, — кажется, дневал и ночевал бы там. А после того как его увидела за мехами сама Анфиса Петровна и пообещала начислить трудодни, Мишка стал сам не свой.
В последние дни они с Николашей важнецкую штуковину придумали: из старья, из двух заброшенных косилок собрать новую машину. Ох, если выгорит это дельце — тогда посмотрим, какие он номера будет загибать на сенокосе!
Старая, наполовину вросшая в землю кузня стояла за колодцами, у самого болота. Мишка еще издали, от задворок, увидел стены, навес, заставленный плугами, боронами и разными машинами.
Ворота, как всегда, раскрыты настежь. В черной глубине клокочет пламя; отсветы его лижут щуплую фигуру Николаши, склонившегося над наковальней.
Мишка мог бы с закрытыми глазами рассказать о каждом уголке прохладных, подернутых вечным сумраком недр кузни. Вот старые мехи, на вершок покрытые пылью, вот колода с застоявшейся, прокисшей водой (в ней вечно мокнут щипцы), вот верстак у маленького окошечка, заваленный множеством разных инструментов; за верстаком в темном углу куча железного хлама, и над ним седые космы дремучей паутины…
Приближаясь к кузне, Мишка с жадностью потянул единственный в своем роде воздух, какой держится около деревенской кузницы, — удивительную смесь древесного угля, горелого, с кислинкой железа и чуть-чуть прижженного вокруг дерна от постоянно сыплющихся сверху искр.
— Сдал? — обернулся на его шаги Николаша и оголил в улыбке белые зубы на худом, угреватом лице.
— А то нет! Спрашиваешь…
Николаша бросил в колоду вместе со щипцами какое-то железное кольцо, над которым только что трудился, обмыл в колоде руки и, вытерев их о передник, покровительственно похлопал своего подручного по плечу:
— Ну это ты молодец! По-нашенски. Значит, теперь на все лето в кузнечный цех? Так?
После этого он неторопливо, с чувством собственного достоинства прошел к порогу, сел.
«Ох, — вздохнул про себя Мишка, — начнет сейчас воду в ступе толочь». Но делать было нечего, и он тоже присел рядом.
Николаша вытащил из кармана брюк новенький, красного шелка кисет с зеленой лентой, подмигнул:
— Видал?
— Ну?
— Кралечка одна подарила… Раскрасавица! Ну просто аленький цветочек, сладко зажмурился Николаша. — А волосы какие… шелк… густые-густые.
— Хы, — презрительно усмехнулся Мишка. — У кобылы хвост еще гуще.
— Не понимаешь ты красы, — обиделся Николаша. — На, закуривай.
Мишка потряс головой:
— Не хочу.
— Ну как хочешь. Интересу упрашивать не вижу. Этот жадюга Кротик сорок рубликов за стакан содрал. Это же, говорю, Федор Капитонович, чистая эксплотация. «Да ведь я, говорит, не за свои интересы, за государственные». Это как же, спрашиваю, за государственные? Обдираешь меня как липку, а выходит, я же радоваться должен! «А так, говорит, что эти денежки у меня в налог пойдут. Грех, говорит, для своего государства жалеть в такое время». Понял? — жиденьким смехом засмеялся Николаша.
Мишка нетерпеливо оборвал:
— Хватит тебе. Давай лучше за дело.
— Нда… — покачал головой Николаша, делая вид, что не расслышал Мишкиных слов. — А нынче знаешь что надумал Кротище? Весь огород под окнами табаком засадил. Куда, говорю, Федор Капитонович, столько? Тут, говорю, всей деревне нюхать не перенюхать. «Экой, говорит, непонятливый ты, Николай. А кто табачком район выручит? Сознательность, говорит, иметь надо».
— Дался тебе этот Кротик! — вскипел Мишка. — Говори лучше, чего принес из «Красного партизана». Дали косу?
Николаша встал и молча, обиженный, повел Мишку в примыкавшую к кузне избушку, где в великой тайне от всех собиралась сенокосилка.
ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ
В вечернем воздухе тишь и благодать. Слышится бойкий перепляс молотков — в черной пасти кузницы бушует пламя.
Варвара, с любопытством посматривая вокруг себя и поигрывая крашеным коромыслицем, любовно отделанным для своей женушки пекашинским кузнецом Терентием — нынешним фронтовиком, не спеша идет к колодцу. Длинная тень пятнит мокрый лужок, тает в тумане, который белой куделью плавает над болотом. На Варваре пестрая сборчатая юбка, выгодно подчеркивающая ее гибкую, не по-бабьи тонкую фигуру, белая кофта с широкими с напуском рукавами до локтей.
Солнце садится на верхушки розового сосняка. Варвара слегка щурит глаза и с наслаждением, мягко, как кошка, опускает босые ноги в нагретый за день песок.
Набрав воды, Варвара повесила жестяной черпак с длинным шестом на деревянную стойку у колоды, из которой поили лошадей, и стала прилаживать коромысло к ведрам. В это время на глаза ей попался Лукашин — он шел к кузнице со стороны навин.
— Водички холодной не желаете?
Лукашин даже не оглянулся.
Варвара разочарованными глазами проводила его до ворот кузницы, презрительно наморщила нос: «Экой губошлеп, как на воде замешен. Сердце-то уж не чует, что