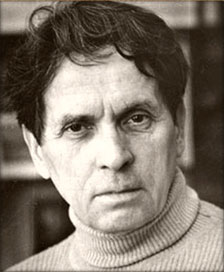— Сама не знаю как…
— Ну так я скажу. Отлично чувствуете!
— Это почему же? — снова удивилась Анфиса.
— Дела от Лихачева приняли?
— Нет еще… когда…
— Вот видите, а уже на ногах. Значит, душа болит, беспокоитесь. А это главное!
Новожилов спрашивал о готовности к севу, требовал немедленного выезда в поле, интересовался настроением людей, запасами хлеба в колхозе. Она что-то отвечала, кричала в трубку, когда он переспрашивал, — как в тумане…
После разговора с секретарем самые противоположные чувства охватили Анфису. Это был первый человек, с которым она говорила как председатель. Ей было радостно, что секретарь райкома так просто и приветливо разговаривал с нею, и в то же время страх подкатывал: только теперь она поняла, всем сердцем почувствовала, какой груз взвалили ей на плечи. С этого дня она, малограмотная баба, в ответе за весь колхоз, за целую деревню…
Занятая этими мыслями, она и не слышала, как в контору вошел Федор Капитонович.
— Вот как мы, уже хлопочем! — радостно заговорил он с порога, поощряя ее усердие всем своим видом.
Федор Капитонович был в праздничном пиджаке, в кожаной фуражке, которую он обычно надевал в торжественных случаях, в добротных сапогах, жирно смазанных дегтем. Его маленькое сморщенное личико, обметанное реденькой колючей щетиной, неподдельно сияло.
«Чего это он сегодня? Радость какая?» — подумала Анфиса.
Поздоровавшись за руку — и это тоже удивило ее, — он степенно сел на деревянный некрашеный диван, снял фуражку.
— Ну, слава богу, и у нас как у людей… — Федор Капитонович достал пестрый платок, вытер лысину. — Я уж говорю бабе своей: вот, Матрена, и мы дождались праздника! А то ведь с этим Харитошкой беда! Истинно сказали вчера колхозники: пустил бы по миру и глазом не моргнул…
Анфисе ли было выгораживать Лихачева, но слова Федора Капитоновича покоробили ее.
— А пустой и был человек… — продолжал Федор Капитонович. — Жалеть нечего. У самого царя в голове нету — хоть бы умных людей слушал…
— Ну тебя-то он слушал — грех обижаться.
— Да ведь как слушал? Я ему, бывало, так и эдак. А он все свое… Знамя? Да ты сперва о колхозе радей! — вознегодовал Федор Капитонович. — А знамя что — не уйдет, по заслугам и награда…
Успокаиваясь, он вынул кисет, свернул цигарку, выбил кресалом искру. Едуче запахло самосадом. Анфису всю так и передернуло, но она сдержалась.
Федор Капитонович затянулся, пошарил глазами по столу, по подоконнику и, не найдя посудины, стряхнул пепел на ладонь. Вместе с пеплом от цигарки отвалился красный уголек, но рука Федора Капитоновича даже не дрогнула. Это так удивило Анфису, что она невольно и с каким-то безотчетным страхом взглянула ему в лицо. Сквозь волны сизого дыма на нее по-прежнему ласково и умиленно смотрели маленькие слезливые глазки. Тогда она снова перевела взгляд на руку. Большущий, согнутый, как крюк, палец, дожелта прокуренный. Потом она разглядела и всю руку — каменно-тяжелую, жилистую, с задубевшей кожей на ладони.
«О господи, вот дак ручища», — подумала Анфиса, окидывая глазами щуплую фигуру Федора Капитоновича.
Оправившись от изумления, она спросила:
— Когда думаешь в поле выезжать?
— Да ведь когда… Ежели, скажем, к примеру…
— На Широком холму обсохло. Начинать надо.
Федор Капитонович внимательно посмотрел на нее и вдруг с готовностью воскликнул:
— Это уж беспременно! Я завтра пробный выезд хочу сделать. С тем и пришел…
— Вот и ладно, — сразу подобрела Анфиса, а про себя подумала: «Может, и зря о нем худо думаю?»
И Федор Капитонович, словно желая рассеять остатки ее сомнений, строго добавил:
— Да ведь как же! Война — понимать надо!
Потом, зажимая в руке окурок, глянул под стол:
— Смотрю, в башмаках. От форсу аль по нужде?
— Какое от форсу… — застеснялась Анфиса, подбирая ноги. — У старых сапожонок союзки обносились. Уже теленка сдам — дадут кожи…
— Да ведь теленка когда сдашь, а без сапог… Оно, конечно, председательская работа чистая, а все же разъезды, то, се. Нет, председателю беспременно сапоги надо! — убежденно сказал Федор Капитонович.
Лицо его вдруг приняло озабоченное выражение.
— Что же нам с тобой делать-то, Петровна, а? Разве что… — начал размышлять он вслух. — Ну да! Ты вот что, приноси свои сапожонки. У меня где-то союзки валялись Ночь посижу, к утру сработаю.
— Что ты, Федор Капитонович, я уж как-нибудь выкручусь. А союзки тебе самому сгодятся…
— И не говори, и слушать не хочу! — рассердился Федор Капитонович. Плачь, да выручай. На этом свет держится. Об этом и партия учит…
Растроганная до глубины души, Анфиса не знала, как и благодарить:
— Ну спасибо тебе, Федор Капитонович. Ты меня так… так выручишь… Там и союзки-то небольшие надо. А я уж тебе, теленка вот сдам…
— Пустое говоришь, — опять строго оборвал Федор Капитонович. Затем, почесав затылок, как бы между прочим, добавил: — А ты мне хоть пудишко на первый случай… Больше не прошу… Сам знаю — война…
Анфиса непонимающе уставилась на него.
— Мучки, говорю, со склада. До краю дожил. — И, видя, что председатель растерянно шарит по столу руками, Федор Капитонович подсунул ей бог знает откуда взявшийся листок бумаги. — Не ищи; знаю, что дела еще не приняла…
— Да я не знаю… — замялась Анфиса. — Муки на складе званье одно… А ты хозяин исправный, — она натужно улыбнулась, — проживешь…
— Эка ты, — недовольно поморщился Федор Капитонович. — По моим сусекам не мела… Да я что, задаром? Нет, ты мне в счет трудодней, по всем законам. Опять же — как на вчерашнем собранье постановлено? Забыла? Нет, Петровна, — внушительно поднял палец Федор Капитонович. — Супротив народа не советую. Харитон супротивничал — знаешь, что вышло?
Кровь бросилась в лицо Анфисе. Она немигающими глазами смотрела на этот желтый не сгибающийся, как крюк, палец, и вдруг страшная догадка озарила ее.
— Да ведь ты… — прерывисто задышала она. — Ты… что же это?.. Сапогами хотел купить? Люди с голоду пухнут, а ты… — Ей не хватало воздуха.
Федор Капитонович поджал губы, встал.
— Голова-то думать дадена, а не то чтобы всякое пустое, — строго и назидательно сказал он и, всем своим видом показывая, до какой степени он оскорблен, пошел к двери.
— Анфиса, Анфиса! — в контору, едва не сбыв с ног Федора Капитоновича, вбежала растрепанная, насмерть перепуганная доярка Марья. — Корова подыхает…
— Что?..
— Корова, говорю, подыхает… Да иди ты, бога ради…
Марья, всхлипывая, схватила Анфису за рукав, потянула из-за стола.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Лукашин был страшно зол. Хозяйка (он таки не избежал участи всех командировочных — остановился у Марины-стрелехи) разбудила в восьмом часу. Пожалела. Этака дубина стоеросова!..
Утро было холодное, ветреное. Из труб валил дым, зябко прижимался к тесовым, белым от инея крышам. Сапоги, как колодки, стучали по еще не оттаявшей с ночи дороге. Навстречу ему попадались школьники, останавливались, молча провожали его не по-детски серьезными, вопрошающими глазами.
Ну ясно! Куда это ты, дядя, торопишься? Не успел заявиться и уже лыжи навострил! А что подумает Минина? Это же никуда не годится. Вчера, после собрания, бог знает какой ерунды наговорил. Рассуждал о предвидении, о каких-то главных звеньях. Прямо как пономарь!
Он подумал было, не заскочить ли на минутку в правление, сказать, по крайней мере, что и как. Но ему опять вспомнился ночной разговор по телефону, и он зашагал быстрее. Секретарь райкома Новожилов через каждые два слова с надрывом кричал: «Ты меня понял? Ты меня понял? Немедленно в Водяны…» Хорошо, что хоть на снятие Лихачева реагировал спокойно. Наверно, не все понял — слышимость была отвратительная, а может быть, и понял, да все дело в наводнении.
В верхнем конце Пекашина Лукашин был впервые, и, как ни нервничал он сейчас, глаза его зорко присматривались к окружающему.
Все те же дома, то одноэтажные, то — изредка — двухэтажные, но обязательно с огромными крытыми дворами и поветями. Голые огородцы — картофельники, устланные старыми, как плети, побелевшими стеблями. Часто попадались нежилые избы с заколоченными окошками, с выбитыми стеклами. Ветер со свистом хозяйничал в них, как на погосте. Передки у многих старых домов разломаны на дрова. Кое-где виднелись свежие разрезы бревен. Видно, вошло уже в привычку; оторвет хозяйка чурку, и дальше. И на протяжении целого километра ни одной новой постройки, поставленной в последние годы.
«Ох, и какая же работа предстоит после войны! — думал Лукашин. — Деревню заново отстраивать придется».
Спускаясь с пекашинской горы, он поднял воротник шинели, чтобы заслонить лицо от колючего ветра. Когда он перебрался через вспененную, яростно клокотавшую Синельгу и вошел в лес, высокий розовый сосняк, — сразу потеплело. Ветра здесь не было, только в верхушках, позлащенных солнцем, слегка пошумливало и охало да изредка раздавался глухой, надтреснутый скрип дерева.
За первым же поворотом песчаной, присыпанной старой, порыжевшей хвоей дороги, по которой еще не пролегла ни одна свежая колея, Лукашин увидел женщину. Низко нагнувшись к земле, она ползала между соснами, недалеко от дороги, и не то высматривала что-то, не то собирала. Из-под красного вздернутого платья выглядывали пестрые чулки, белые подвязки перехватывали их ниже колена.
— Эй, хозяйка, где тут дорога на Водяны?
Ему совсем незачем было спрашивать об этом, потому что Марина-стрелеха обстоятельно растолковала, как идти, и он сделал это машинально, как сделал бы всякий человек, впервые очутившись в незнакомых местах.
Женщина обернулась, и он узнал в ней Варвару Иняхину.
Она не спеша обтерла руки о платье, улыбнулась:
— А чего вы не видали в Водянах?
Лукашин подошел к ней:
— Беда там. Наводнение.
— Ну, им не привыкать, — без всякого сочувствия сказала Варвара. Кажинный год топит. Сели бы еще в реку, дак и вовсе бы из воды не вылезали. Ей-богу, так, — заверила она его, перехватив вопросительный взгляд. — Малый ребенок знает — на горе строиться надо, а эти водари бессовестные расселись на бережку. Чтобы в одной руке травина, в другой рыбина. А как вода-то в деревню зайдет — им тут самое житье. Худо ли? Ена к самому крылечушку подплыла…
Воздав должное жителям Водян, с которыми у нее, очевидно, были старые счеты.