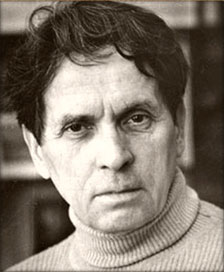Annotation
«…Для нее самой эта маленькая глазастая старушонка была самым загадочным, самым удивительным существом на Земле. Всего-навсего в ней было напихано, от всех взято: от взрослого и от ребенка, от праведницы и от скомороха, от вечной бродяги-странницы и от вещей, все понимающей старушки, какую только и можно встретить в сказках. И потому Федосья не то чтобы верила всем Махонькиным побаскам, но и не потешалась над старухой, как другие, когда ее заносило. Есть, есть чудеса на свете. А раз есть чудеса, есть и люди, которые их творят.
Под вечер, как обычно, к Порохиным притащилась малышня. Пришли на посиделки бабы, девки. С поесьем, с вязаньем, с шитьем, с прядевом. Послушать Махонькины старины и сказки…»
Федор Александрович Абрамов
Часть первая
Федор Александрович Абрамов
Чистая книга
Часть первая
1
Огнейка проснулась – журавли курлыкают, гуси-лебеди трубят, ручьи поют-заливаются.
Но откуда же весна? Вечор ложились, был пост Великий. Неужто весь пост проспала?
Она повернулась со спины на живот, глянула с полатей вниз и кого же увидела? В кого разбежалась глазами? В Махоньку.
Стоит старушечка-говорушечка, шубейка старенькая с разводами, котомочка за спиной, на руке коробок с кусочками, прикрытый белой холстиной,– и поклон, к каждому слову поклон,– ни дать ни взять, из сказки вывалилась.
Не помня себя от радости, Огнейка векшей перемахнула с полатей на печь, на ходу ткнула ногой Енушка (не спи, соня! Кто к нам пришел-то?)– и на пол. Налетела, сграбастала старушонку обеими руками – та едва устояла на ногах.
–Ну, кобыла! С ума сошла?– заворчала от печи мать.
–Дак ведь я любя. А любя-то не больно, да, Махонечка?
–Махонечка… Какая она тебе Махонечка? Марья Екимовна, вот кто она тебе.
–Нет, Махонечка!– заупрямилась Огнейка.– Мы ведь с ней подруженьки, да, Махоня?– и с удовольствием втянула в себя шедший от Махоньки сенной душок, особенно сладостный с морозца.
–Подруженьки, подруженьки,– рассмеялась старуха.
Гостью раздевали всей семьей – к этому времени с печи слез Енко, а потом чуть ли не под руки повели к столу, на который хозяйка уже поставила чугун с картошкой – прямо из печи, густо дымящийся паром, да чугун – поменьше – с кипятком – самовара в доме не было, еще когда был жив хозяин, списали за неуплату подати.
Гостья тоже в долгу не осталась. Достала из котомки сушеной чернички – ее и заварили вместо чая, а затем из той же котомки и коробка насыпала в старую берестяную хлебницу сухарей из кусочков. Всяких: ржаных, житних, [1] шанежных. [2]
У Огнейки и Енка глаза разбежались – не знали, какой кусок и выбрать. Все – вкуснятина! У них в доме еще на той неделе последнюю горсть муки замели. Наконец Огнейка вцепилась в пеструю, самую заманчивую краюшку – так всей пятерней и накрыла.
–Не гонись за Сысоихой,– сказала Махонька,– у ней только перед с фасоном да напоказ, а за передом-то мякинкой колет. На-ко, я тебе Вахрамея дам.
Все – и Огнейка, и Енко, и даже Федосья уставились на старуху: чего еще Махоня придумала? С каких пор хлебные куски и сухари стали Сысоихой да Вахрамеем называться?
А Махонька тем временем вытащила из кучи хлебных кусков и сухарей толстый ржаной кус и протянула Огнейке:
–Вот какой он, Вахрамеюшка-то, пригожий да желанный. Оржанина чистая.
–Да пошто ты, Махоня, его Вахрамеюшком-то зовешь?
–А пото, что Вахрамей подал. Вахрамей Иванович, с Н…, хороший хозяин. А это вот опять,– старуха за новый кус взялась,– Ряхин Иван будет, тоже человек добрый. А это Емелько с Ш… Сам легкий, как сена клок, и сухарь насквозь просвечивает, хоть в раму за место стекла вставляй. А то опять будет Оксенья-квашня. Вишь, как расшиперилась.
–И ты, бабушка, все сухари по именам знаешь?– спросил Енко.
–Знаю, как не знать-то. Зайко в лесу все кусты знает, а я разве не заяц в людской пороше? Всю жизнь от дома к дому скачу, всю жизнь с коробкой на руке. Да я не то что по куску, по картошине-то хозяина-то узнаю.
–А ты, бабушка, будешь ли нам про медведя-то сказывать? Как он на жернове-то летал.
Махонька звонко, по-ребячьи всплеснула сухими, коричневыми ручонками, покачала головой.
–Ой-ой, любеюшко! Запомнил. Да я ведь когда у вас была-то? Два года назад. Сколько тебе тогда годков-то было?
–Пять ему теперека,– ответила за брата Огнейка,– дак считай.
–Ну-ну, высоко взлетишь, когда на крыло станешь!– И Махонька, расчувствовавшись, погладила Енка по светлой, как у ангела, голове.
–А я?– вскинулась Огнейка.
Старуха ни на минуту не задумалась: всегда слово на языке.
–А за тобой на ковре-самолете прилетят. Из самой Москвы але из самого Питенбура.
–Да хоть бы из Лаи кто прилетел, и то бы хорошо,– сказал Федосья, и все рассмеялись.
Махонька всему отдавалась сполна, как ребенок. Она и смеялась до слез. А кончив смеяться, вытерла сухой ладошкой мокрые глаза – у нее были большие, во все широкое, скуластое лицо, светло-голубые, еще не размытые временем глаза – и сказала:
–А меня тоже в Питенбур да Белокаменную звали.
–Тебя? В Питенбург?– Огнейка тугим мячиком надула зарумяневшие щеки и не выдержала – громко расхохоталась.
–А вот и зря зубы-то скалишь, матушка,– обиделась старуха.– Звали. Большой человек ко мне из столицы приезжал – две недели у меня жил да все старины мои на бумагу писал.
–Давай дак, Махонечка, больно-то не заговаривайся, ну? Да сказывай нам вперед, где у тебя сказка, где быль. А то эдак и нас запутаешь и себя… Да, мама?
Старуха обиделась еще пуще, и потемневшие глаза ее просто заметали молнии.
–Был человек из Питенбура и Москвы. Кого хошь спроси в Ельче, скажет. И не только был, а еще и денег сулил прислать.
–Денег? Это тебе-то денег?– Огнейка тоже зашлась, не уступала.– Да за что?
–А за то, что старины ему пела да сказывала. Это у нас-то ничем меня зовут, век с коробкой брожу, а на Русь, говорит, выедешь, в ноги тебе поклонятся, Екимовна.
Федосья, растерянно переводя глаза с Огнейки на Махоньку, не знала, как и быть. Надо бы перво-наперво дочь осадить – разве ей, девчонке сопливой, так со старым человеком разговаривать да норов свой показывать? А с другой стороны, она и понимала Огнейку: больно уж старуха расплелась, невесть что наговорила. Как все за золото принимать?
Наконец она сообразила, как без обиды утихомирить старуху и дочь.
–Мы тут про Питер да про Москву раскипелись – все равно не бывать нам ни тут, ни там. Ты лучше нам про свои, про ельчинские, новости сказывай.
–Большие, большие на Ельче новости,– сказала Махонька.– Я-то сама в городу давно не бывала, а которые люди были, сказывают: забита Ельча ссыльными.
–Ссыльными?– Огнейка так и округлила карие, слегка раскосые глаза.– А кто они, эти ссыльные?
–А те, которые против царя, девушка.
–Против царя?– ужас плеснулся в глазах у Огнейки.
–Дак что, они с шерстью але как?
–Нет, девка, шерсти-то большой на них не видели, разве что под рубахой прячут. А с лица, говорят, гладкие, бритые, одеты по-городскому. И женьско есть.
–Бабы? И бабы против царя?
Как раз в эту пору оттаявшие после утренней топки передние окна позолотило солнцем.
Федосья, не чаявшая, как отвести детей и старуху от опасного разговора, от души воскликнула:
–Ну, славу Богу, вот и царь весны воссиял. Сколько уж не показывалось солнышко – может, неделю, может, больше. Теперь, все ладно, будем хозяина, Савву Мартыновича, из лесу поджидать. Дров сулился привезти.
–А Иванушко, тот все при монастыре мается?
Федосья расплакалась:
–Не мается больше. Выгнали.
–Выгнали? Ивана-то выгнали? Да за что?
–А за что нас, Порохиных, все не любят да ненавидят?
–Федька-келейник икотником назвал,– сердито, напрямик сказала Огнейка.
–Ну и что, привыкать нам к икотникам-то? Мало нас икотниками-то ругают,– возразила дочери Федосья.– Стерпел бы, а то на-ко – с ножом на человека кинулся.
–Не будем терпеть,– гневно сверкнула черными глазенками Огнейка.– Да я бы этого борова, кабы ружье у меня было, сама застрелила бы, вот.
–Вишь вот, вишь вот, какие они у меня!– со вздохом кивнула Федосья на Огнейку.– Все в покойника отца. Может, один малый потише-то будет, а эти – что Савва, что Иван, что Огнея – пороха не несут.
–А чего им порох-то нести, когда они сами Порохины?– пошутила Махонька, затем опрокинула кверху донышком свою чашку – напилась – и в утешенье матери сказала: – Ладно, давай не расстраивайся. В вороньем стаде человеку прожить всю жизнь невелика радость.
Разом просиявшая Огнейка воскликнула:
–Махонечка, воронье-то стадо – это монахи, да?
И тут Огнейка до того разошлась, что, как сноп, схватила в охапку старуху, поставила рядом с собой.
–Смотри-ко, Махонечка, я ведь переросла тебя. На целое ухо переросла, ей-богу. А ты, матушка, меня за правду ругала!
–Переросла, переросла,– живо согласилась Махонька.
И Федосья – что делать – только махнула рукой: а ну вас, разбирайтесь сами. У меня и забот других нет, как только старо да мало мирить.
2
Порохины, зубанили в Копанях, первые богачи в деревне. По прозвищам – сразу два.
Первое прозвище – чудь белоглазая – давнишнее, вековечное, когда в порохинском роду вдруг вынырнул на удивленье белоглазый ребятенок – от него-то, сказывают, и пошло светлоглазое и светловолосое племя. А второе прозвище – икотники – совсем свеженькое – принесла вместе с приданым Федосья.
Отец Федосьи, больше известный в своей деревне как Миша-ряб, трухлявый, квелый, и над ним потешались и изгилялись все, кому не лень.
И вот терпел-терпел Миша-ряб, да однажды возьми и припугни мужиков:
–Еще раз тронете, икот на вас напущу.
Думал: за икотами этими укроюсь, как за каменной стеной, а вышло наоборот – житья никакого не стало.
Чуть что случилось в Шуломе – вскочила кила, баба, забитая мужиком, заревела дурным голосом, скотина пала, парень девку разлюбил, хлеб ранним утренником прихватило – кто виноват? Чья работа? Миши-икотника (так теперь его называли), он с нечистью знается, он икотами трясет на каждом шагу, а икоты – те же бесы.
Мишу били смертным боем, не раз пытались спалить вместе с подворьем и в конце концов утопили в мельничном пруду, привязав на шею веревку с камнем.
От Миши осталось пятеро детей, и все