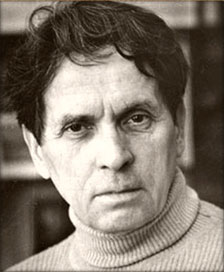девки. Красавицами, может, и не назовешь, но все в материн род – все рослые, работящие, рассудительные. Но вот что значит слава икотниц! Не нашлось женихов для первых четырех. И та же участь грозила и младшей – Федосье. Но тут уж взбунтовались сестры: выдадим взамуж Федосью! Ни за чем не постоим, а выдадим. Пущай хоть одна из нас да будет жить по-человечески.
Короче, объявили: корову да телушку даем в приданое.
По деревням запели:
Поезжайте в Шулому.
Дадут корову, да телушку,
Да икотницу с присушкой.
В своей деревне смельчаков, однако, не оказалось, и в соседних деревнях храбрость не взбурлила ключом, а вот Мартыха Порохин из Копаней минуты не раздумывал. На коня вскочил и поскакал сломя голову – только бы не опоздать.
Другой такой семейки, как порохинская, не то что в Копанях – по всей Ельче поискать. Две дочери, обе красавицы, забрюхатели в девках, и сыновья – три мужика, три лба здоровых,– ни один не прирос к земле. Но старшие хоть служили: Герасим, старый солдат и холостяк,– дворником в Архангельске, Левонтий – в лесной страже, а младший? Что делал Мартын?
Мартын, с малых лет заядлый лошадник и картежник, всю жизнь ошивался на ярмарках да всяких торжищах.
В свои тридцать лет он не верил ни в Бога, ни в черта, а уж в каких-то там икот и подавно. И все-таки, перед тем как лечь с молодой в брачную постель, он до крови излупил ее плеткой – так, на всякий случай, чтобы выбить икот: а вдруг да они, стервозы, и на самом деле есть. Ведь бают же зачем-то про них люди.
Женитьба никак не изменила Мартына. Он по-прежнему таскался по ярмаркам, по-прежнему менял лошадей, бражничал, играл в карты и раз до того продулся, что Федосья осталась в одном сарафане – всю одежду, всю обутку выгреб да отдал за долги цыганам.
Но была, была одна слабинка и у Мартына – Огнейка, хотя именно рожденье-то дочери попервости повергло мать в ужас. А как? Все сыновья – и Савва, и Ваня, и два мальчика, которые умерли, все были в отца: светлоглазые, беловолосые, а тут – чернявка, головешка банная. Что скажет отец, когда вернется домой (Мартын был тогда в Ельче, на Никольской ярмарке)?
Мартын ничего не сказал, даже не посмотрел на дочь. И так было до тех пор, пока однажды Огнейка (она уж к тому времени говорила) вдруг ни с того ни с сего начала проситься с коленей матери к отцу. Так прямо и сказала:
–Хочу к таты!
Федосья, насмерть перепуганная, посадила Огнейку на пол, нашлепала: не выдумывай! Сыновей отец ни разу на коленях не держал, а ты чего захотела?
Не помогло. Огнейка снова потянулась к отцу. Тот завзводил глазищами – медведь испугается, не то что ребенок,– и так двинул валенком, что девка чуть не на середку избы отлетела.
Но и на этот раз не отступила Огнейка.
–К таты, к таты хочу!– захлебываясь слезами, завопила она еще пуще и снова поползла к отцу.
И тут произошло чудо: Мартын поднял с пола ребенка и посадил на лавку рядом с собой.
–Моя девка! Поеду в город, гостинца привезу.
С той поры не было случая, чтобы Мартын, возвращаясь из какой-либо поездки, не привозил дочери подарка. И в ту, свою последнюю, поездку, когда Карюха привезла его домой мертвым и начисто ограбленным, он не забыл про дочку: Федосья на дне розвальней, под сеном, нашла маленькие черные валеночки.
3
К Порохиным по целым дням никто не захаживал, если не считать соседского мальчика Олешеньки горбатого,– тот не боялся икот, дневал и ночевал у них. А сегодня не успела Федосья убрать со стола, как заиграли ворота, забухали двери.
Первым прибежал Гавря свата Викула, который своим строеньем-размахаем перекрывал Порохиным солнце, парнишечка мозглявый и вредный, как отец. Прибежал в одной рубашонке, босиком и долго выплясывал под порогом.
Огнейка (к этому времени она с Махонькой и Енушком была уже на печи) пришла в ярость.
–Зачем пришел? Кто звал? Убирайся!– и руками загородила от него старуху, как будто та принадлежала только ей.
–Огня! Нехорошо ведь так встречать гостя.
–Не защищай, не защищай, матушка! Гость… Вечор я выбежала на улицу, ты чего кричал? Как меня называл?
В избу вбежало еще двое, потом трое, а потом и дверь перестала закрываться.
Огнейка еще не сдавалась, выкрикивала:
–Не будет, не будет вам сказывать да петь Махоня. Да, Махонечка?
–Давай дак не гони. Не убыдет твоей Махонечки. У меня костья да мяса нету, а горлом-то Бог не обидел. Как труба.– И старушонка, не то пробуя свой голос, не то для того, чтобы умиротворить Огнейку, заревела белугой – стекла задрожали в рамах.
Ребятишки – их уж под полатями наросло, как грибов в лесу в урожайный год,– молча, задрав кверху головы, как на чудо, смотрели на крохотную старушонку. И та в грязь лицом не ударила. Ножки коротенькие в цветных шерстяных чулках домашней вязки с печи свесила (никогда лежа не пела, не сказывала), голову в синем полинялом повойничке вскинула – на глазах выросла.
–Ну чего сказывать-пропевать?
–Про Зайку да Лисоньку!
–Нет, про Кастрюка.
–Про медведя, про медведя! На жернове-то который летает.
Махонька – явно для того, чтобы задобрить все еще сердитую, надувшуюся Огнейку,– сказала:
–А вот что моя подружка прикажет, то и петь-сказывать буду.
–Ну тады про медведя, Махонечка, ладно?– чуть не плача, прошептала Огнейка.
Небылица в лицах, небывальщинка.
Небывальщинка да неслыхальщинка.
Ишша сын на матери снопы возил.
Всё снопы возил, да всё коноплены.
Впереди, средь тех, кто был поближе к печи, рассмеялись.
А задние ловили каждое слово с раскрытым ртом, да и Федосья, даром что не первый раз слышит небылицу, тоже напрягла ухо.
Шепеляво, жиденьким ручейком выкатились первые слова из беззубого старого рта. Махонька это и сама понимала.
–Худо чего-то ноне зачала,– сказала она недовольно.– Всё на мели, всё на мели, никак не могу на глубь выйти. Ну-ко, я еще раз пропою.
Она прокашлялась и заново повторила пропетые строки. И тут как будто прорвало плотину: голос ее разлился рекой, но рекой веселой, с подскоком, с игрой на перекатах: небылица-то была плясовая. Скуластое, широкоглазое лицо Махоньки от впалого морщинистого рта, в котором победно сверкал один-единственный зуб, до корней седых волос, аккуратно заправленных под повойник, омылось счастливейшей улыбкой, и она начала прихлопывать в ладоши.
Небылица в лицах, небывальщинка,
Небывальщинка да неслыхальщинка.
На гори корова белку лаела,
Ноги расширя да глаза выпуча.
Тут прыснули сразу с десяток ребятенок – живо представили себе корову, но Махонька орлицей вскинула голову: чтобы никто не посмел ее перебивать. Не любила, когда к ее слову отборному липла мякина.
Небылица в лицах, небывальщинка,
Небывальщинка да неслыхальщинка.
Ишша овца в гнезди на яйце сидит,
Ишша курица под осеком траву секет,
Небылица в лицах да небывальщинка.
По поднебесью да сер медведь летит,
Он ушками, лапками помахыват.
–Буде заливать-то!– громко, на всю избу, выкрикнул Васька, старший брат Гаври.– Медведь-то не летает.
–Загунь!– с ходу обрезала его Махонька.– Мой летает!– И она, какое-то мгновенье сердито поплямкав губами, опять заулыбалась: любила сказывать небылицу.
По поднебесью да сер медведь летит,
Он ушками, лапками помахиват,
Он черным хвостом да принаправливат.
Небылица в лицах, небывальщинка.
По синю морю да жернова плывут,
Небылица в лицах, небывальщинка.
Как гулял гулейко сорок лет за печью,
Ишша выгулял гулейко ко печню столбу.
Как увидел гулейко в лохани:
«А не то ли, братцы, всё синё море?» —
Как увидел гулейко – из чашки ложкой шти хлебают:
«А не то ли, братцы, корабли бежат,
Корабли бежат, да все гребцы гребут?!»
Небылица в лицах, небывальщинка,
Небывальщинка да неслыхальщинка.
–Всё,– шумно выдохнула Махонька и поклонилась.
–Ишо, ишо!– дружно, на все голоса закричали детишки.
Федосья, убаюканная Махонькиным голосом и пригретая мартовским солнцем, заставила себя встать. Она не ребенок, ей нельзя часами без дела сидеть.
Хорошо быть в Махонькиной сказке, век бы ее слушала, а надо выбираться в жизнь. Невпроворот дел. Корова (через месяц, все ладно, Лысоня отелится), вода, дрова. А самое главное – чем накормить гостью?
Для других, может, ихняя гостья всего-навсего только нищая старушонка-попрошайка, а для нее, Федосьи, видит Бог, на всем свете нет дороже гостьи. Семь лет назад (тогда еще был жив Мартын) Савва, возвращаясь с Синь-горы с товарами для Губиных, подобрал на дороге полузамерзшую старушонку, которую по первости принял было за лесную нежить – такая она была крохотная, привез домой, да с той поры эта старушонка стала для нее роднее родной сестры. С кем так выговоришься, облегчишь свое сердце? Когда они, Порохины, как все люди? Когда их дом полон людей? Когда Марья Екимовна у них. А уж насчет веселья, радости, надо правду говорить, у них такого и в Пасху не бывает.
Федосья, одеваясь и вполуха прислушиваясь к разошедшейся старухе, неотступно думала о том, чем кормить гостью.
Год был зеленый, сами они уже вторую неделю жили на картошке, да на грибах, да на капусте. Все надежды были на Савву, на его заработки. Но когда Савва из лесу вернется? Через неделю? Через две?
Занять денег у людей? Да где найти таких добреньких да храбрых, которые захотели бы икотнице помочь?
И вдруг Федосью осенило – репы с поля привезти. Правда, в Копанях ямы с репой вскрывают ближе к концу Великого поста, когда людей вплоть до шатуна вымотает постная еда, и, ах, какая это радость для ребятишек и для взрослых – свежая репа! Как на дрожжах, все начнут подниматься. Но что с того, ежели она и раньше, чем принято, раскроет яму с репой? Осудят? Ну и бог с ними, пересудами. Не привыкать.
4
У Марьюшки, или – по-уличному – Марьки, Федосьиной свекрови, в молодости была худая слава. Сыновья от Фомы – на каждом из троих отметина родовая, а от кого дочери? Обе с шальной кровью, обе зеленоглазые. От монахов?
Зато уж под старость Марьюшка стала святошей из святош. В пост молока никому ни ложки