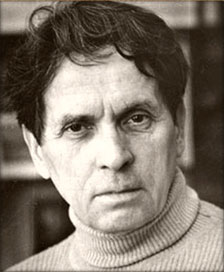на уме было.
Махонька хотела было уступить Ване печь, но Ваня и слышать не хотел. Он лег, укрытый всеми шубами, на кровать, где только что лежала мать, а Федосья постлала себе на полу, возле передней лавки, где не так мешал месяц.
Она не спала. Она все ждала, когда заговорит Ваня: ведь ему же легче будет, когда выговорится.
Но Ваня молчал. В избяной тишине только и слышно было, как он на кровати грызет репку да еще время от времени на печи потрескивает лучина: должно быть, Махонька не спит. Должно быть, она ворочается, стараясь поудобнее устроить на ночь свои старые кости… Потом все звуки в избе стихли. И тогда Федосья, по обыкновению, тихим шепотом, чуть-чуть шевеля губами, начала читать доморощенную молитву, которую когда-то читала еще ее мать:
–Господи, благослови моих деточек: Савву, Ивана, Огнею, Афиногена, дай им крепкого здоровья и долголетия, ума-разума, да счастья и удачи в жизни. Аминь.
Вслед за этим она особо призвала Господнее благословение на свою скотину: на Карюху и Лысаху, на двух овечек и Белошейку (хорошо мышей ловит), затем мысленно перекрестила в дому все ворота, двери, окошки и окошечки, щели, чтобы не было ходу в дом ни нечистой силе, ни лихому человеку, и только после этого отдалась сну.
9
Быстро, за три дня, расправились с бабушкиными кусочками и сухарьками.
И настало утро, когда на столе у Порохиных опять не оказалось ни единой крошки хлебного.
Енушко, катая по столу горячую картошку, вдруг выпалил:
–Бабушка, а у нас в деревне старушки тоже собирают кусочки. Я видел.
–Да ты глупый, что ли?– возмутилась Огнейка.– Бабушка-то гостья, а гости-то не собирают кусочков, да, мама?
–Да, да!– быстро замотала головой Федосья.
От стыда она не знала, куда и глаза девать, и у Вани всегда бледное лицо порозовело.
Но что за золото эта Махонюшка! Не обиделась. Весело, как сорока, застрочила:
–А вот и пойду, батюшко. Что мне стоит обежать хоть ваших суседей. Сказки слушать любите – раскошеливайтесь. Немного и надо бабушке: каравай хлеба до пупа да белой рыбки два пуда…
Жаркий смех полыхнул за столом: Порохины были отзывчивы на игривое слово, может, потому-то и облюбовала их в Копанях Махонька.
Одна хозяйка в эту минуту хмурила брови. Потому что, глядя на довольнехонькую, до слез смеющуюся старушонку (всегда вот так радуется, когда вовремя нужное слово подкинет), Федосья вдруг подумала: а что, если она и на самом деле пойдет попрошайничать? Она не из робкого десятка, коробку на руку – и запела: подайте Христа ради. А им-то, Порохиным, после этого как жить? Им-то как людям в глаза глянуть? Ведь такого сраму, чтобы гостья хозяев кормила, да еще кусочками, собранными Христа ради, такого сраму, как свет стоит, не бывало.
Ей не хотелось, ох, как не хотелось идти на поклон к Губиным – Савва и так вперед забрал и деньгами, и харчами, но и сидеть сложа руки она тоже не могла.
–Мама, ты куда?– окликнул ее Ваня, когда она после полудня вышла из дому.
Федосья никогда не таилась от детей, а уж от Вани-то, который с малых лет поражал ее своим умом, и подавно.
–Хочу до Губиных сходить, может, копейкой какой разживусь. Гостью-то надо кормить.– И предложила: – Ты не хочешь с матерью?
–Не,– невесело, совсем не по годам покачал головой Ваня.
–И палаты новые у Самсона Павловича не хочешь посмотреть? Ну и зря,– сказала Федосья.– Ведь уж рано-поздно, а надо на люди выходить. Век дома отсиживаться не будешь.
Ваня в нерешительности, все еще думая о своем, поставил на крыльцо лопату, которой разгребал выпавший за ночь снег, потом вдруг живо отряхнулся, живо обил валенки от снега, приподнял заячий треух, съехавший на глаза, и сразу – королевич. Так, по крайней мере, в эту минуту показалось матери, которая всегда дивилась необыкновенной способности своего сына мгновенно, прямо на глазах меняться.
Плотным, утоптанным проулком они вышли на улицу переднего посада, которую в Копанях больше называют дорогой (по ней главный Ельчанский тракт проходит), и попали в другое царство.
Да, да, да! У них на задворках народишко собрался никудышный, с ленцой. Кто расчистит заулок от снега, а кто, как зверь, всю зиму тропой бродит. А тут ведь не заулки возле домов – наволоки. Широкие, длинные. И не просто лопатой распаханы, метлой вылизаны.
И еще Федосья, жмурясь от солнца, от слепящей белизны снега, украдкой от сына полюбовалась на монастырь за рекой, на это чудо, белокаменное чудо с золотыми крестами, жарко сияющими в голубом небе.
Но она пощадила сына – никак не выказала своих чувств. Ваня не зря боялся выйти из дому. Ибо не успели они выйти еще из своего околотка, как им повстречался Антон Чаусов. Пьяный. Бедовый, да к тому же еще и пьяный. Заорал на всю улицу:
–Ну-ко, парень, дай я на тебя посмотрю. Да ты еще шибздик. Ха-ха. Такой шибздик, а уж за нож.
–Тебя еще в тюрьму-то не упекли?
И так и другие. Все щурили глаза, как будто впервые видели парня. И не только свои, копаневские. Богомольцы, а их в Великий пост собирается великое множество. Самое время Богу молиться. Тоже узнавали.
Ваня сцепил зубы – слова никому не сказал, а мать только ему нашептывала:
–Терпи, терпи…
10
Губины поперли в гору каких-нибудь лет двадцать назад, когда за хозяина стал Самсон Павлович. Не в пример своему брату, старику прижимистому, скупому, экономившему на всем – на еде, на одежде, на спичках и даже на соли, сын Павла дела вел широко, хватко.
Землю не забывал, крестьянствовал, но разве с тощих северных подзолов да супесей разбогатеешь? Торговлишка? Отец, бывало, рад-радехонек, ежели в своей лавчонке два-три рубля за день высидит. Нет, Самсон Павлович в лавчонку посадил жену, а сам – за подряды.
По первости набивал руку на мелочишке: прорубил дорогу для монастыря на скит, клепал бочки под рыбу-морянку для купца Максакова из Архангельска, дрова заготовлял для пароходов всесильных братьев Володиных, а потом и Щепоткиных – к самому главному делу Севера подобрался – лесному.
И вот пять лет поломал Самсон Павлович копаневских мужиков в лесных делянах лесопромышленников Рыкаловых – новый дом. Высоченный, в два этажа, с чердаком, который не меньше иной избы, и окон – как в большом двинском пароходе, который только и заходит в Ельчу в вешнее половодье.
Работница Оксюта, попавшаяся им на крыльце (два года назад Федосья травками да божьим словом открыла ей горло, которое не принимало еды), повела их наверх.
Сперва шли светлыми, широкими сенями (хоть на тройке скачи), потом поднимались вверх по лестнице с перилами, потом опять были светлые сени…
А потом открыли двери – и куда попали? В какое сказочное царство? Стены в обоях – алые розы от потолка до пола, шкаф лакированный со стеклянной посудой, печка-голландка со сверкающей на солнце медной дверкой, диван, пол под желтой краской…
Хозяин был не один. За столом, уставленным всякими яствами, сидел еще чистенький ясноглазый старичок с пояском.
–Ну, чего потеряли в моем дому?
Федосья не растерялась: знала, к кому идет.
–Давай не грози, Самсон Павлович. Без твоей грозы отпышаться не можем.
–Чего так?
–Да как? Шли в дом, а попали во дворец.
И вот что такое вовремя сказанное слово! Заулыбался Самсон Павлович. А ведь по первости, когда они переступили порог,– крещенской стужей дохнул на них.
–Ну уж ты скажешь: дворец…
–Дворец, дворец. Екимовна у нас каждый день поет и про хоромы князя Владимира, и про царские палаты Ивана Васильевича… Ну, я там не блудила…– Федосья тоже улыбнулась.– А ведь в твоих-то сенях-колидорах хоть криком кричи. Не знаешь, куда и податься. Да хорошо, нас Оксюта вывела…
Тут Самсон Павлович и вовсе растаял. Живо поднялся, загреб со стола пригоршню конфет и начал одаривать их, как малых ребятишек.
–Екимовна-то кто? Не Махонька?
–Она, Марья Екимовна.
–Ну дак скажи ей, чтобы ко мне зашла. Хочу тоже послушать.
–Скажу, скажу,– закивала Федосья, а про себя подумала: не Екимовна тебе нужна, а слава. Хочешь, чтобы Екимовна славу по всей Ельче про твой дом разнесла.
Она выждала, пока хозяин снова не уселся за стол (а он и раз, и два барином прошелся по комнате), и, вся внутренне подобравшись, собралась сказать то, ради чего пришла. Но Губин в эту минуту обратился к старичку:
–Ефим Семенович, про нашего-то головореза слыхал? Ну, который на келейника с ножом кинулся?
Старичок кивнул, а Федосья тем временем ткнула сына в бок: держись, парень!
–Ну дак вот он – перед тобой!
Старичок только покачал коротко остриженной, в белых иглах головой: больно уж Ваня всем своим видом – худенький, бледнолицый, с потупленным взором – не вязался с образом головореза.
–Не дивись, не дивись, Ефим Семенович,– ухмыльнулся Губин.– Он и не то еще умеет.– И вдруг не сказал, а пролаял: – 25 на 37 – сколько?
Ваня вздрогнул, даже покачнулся малость, но с ответом не замешкался: – 925.
–А 59 на 33?
–1947.
Старичок, донельзя изумленный, потянулся к счетам, которые висели на стене.
Губин захохотал:
–Не трудись, не трудись, Ефим Семенович. Честно, без обмана работаем.
Но старичок все-таки снял счеты, раза два прикинул, а больше не пытался. Не успеть было: Самсон Павлович, войдя в раж, выкрикивал примеры как команды, и старичок, как завороженный, смотрел на Ваню, на его льняное лицо, на котором заметно начали проступать бисеринки пота. И Федосью от волнения за сына тоже обдавало жаром.
Самсон Павлович оборвал свою забаву так же внезапно, как и начал. И тогда старичок, по-прежнему не сводя с Вани своих ясных, но пытливых глаз, вдумчиво сказал:
–Дар божий. Дар божий,– и вдруг прослезился.
Материнское сердце в один миг повернулось к старичку.
–Не обидел, не обидел моего сына Господь,– сказала Федосья с легким поклоном.– Ну нету счастья, почтенный…
–Почтенный? Ха-ха-ха… Почтенный. Да ты разве не знаешь, кто перед тобой? Ванька, и ты не знаешь? Ну и ну. Да это же щепоткинская голова! Сам Необходим.
Мать и сын растерянно переглянулись. Кажется, гром сейчас прогрохочи над их головой, они и то бы так не удивились, как удивились тому, что сказал Самсон Павлович. Ведь этот самый Необходим, который у всей Ельчи на устах – кто?