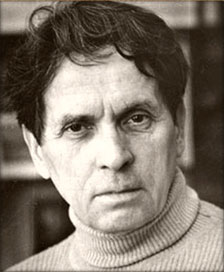счастья было в ее голубых, слегка прикрытых глазах. Счастья старого человека, хорошо, всласть потрудившегося и снова и снова доказавшего и себе, и людям, что он еще не зря на этом свете живет. И тут я вспомнил свою покойную мать, у которой, бывало, вот так же дппольно светились и сияли глаза, когда она, до упаду наработавшись в поле или на покосе, поздно вечером возвращалась домой.
Евгения, ахая, причитая: «Вот какая у нас бабка! Мы еще сидим — брюхо набиваем, а она уж наработалась!», — развернула бурную деятельность. Как подобает примерной невестке. Она занесла легкий ушатик из сеней, вымытый, выпаренный, заранее приготовленный для засолки грибов, сбегала в клеть за солью, наломала в огороде свежего пахучего смородинника, а потом, когда Милентьевна, немного передохнув, ушла переодеваться на другую половину, начала сворачивать на середке избы пестрые половики, то есть готовить место для засолки.
— Думаешь, она сейчас исть-пить будет? — заговорила Евгения, как бы объясняя мне, почему она не хлопочет сперва о завтраке для свекрови. — Ни за что! Старорежимный человек. Покамест грибы не приберет, лучше и не заикайся об еде.
Мы сели прямо на голый пол, кучно, нога к ноге. Вокруг нас мельтешили солнечные зайчики, грибной дух мешался с избяным теплом, и так славно, так приятно было смотреть на старую Милентьевну, переодевшуюся в сухое ситцевое платье, на ее темные, жиловатые руки, которые она то и дало погружала то в коробку, то в ушатик, то и эмалированную кастрюлю с солью, — старуха, конечно, солила сама.
Грибы были отборные, крепкие. Желтая молоденькая сыроежка со сладким пеньком, который на севере едят как репу, белый сухой конек, рыжик, волнушка и царь солех — масляный груздь, который особенно хорошо оправдывает свое название в такой вот солнечный день, как нынешний, — так и кажется, что в его блюдце комками плавится топленое масло.
Я неторопливо, с великой осторожностью брал из коробки гриб и каждый раз, прежде чем начать счищать с него соринки, поднимал его к свету.
— Что — не видал такого золота? — спросила меня Евгения. Спросила с подковыркой, явно намекая на мои довольно скромные приношения из леса. Да вот, в том же лесу ходишь, а гриба хорошего для тебя нету. Не удивляйся. У ей с этим заречным ельником с первой брачной ночи дружба. Она из-за этих грибов едва живота не лишилась.
Я непонимающе посмотрел на Евгению: о чем, собственно, речь?
— Как? — страшно удивилась она. — Да разве ты не слыхал? Не слыхал, как муж в ей из ружья стрелял?
Ну-ко, мама, сказывай, как дело-то было.
— А чего сказывать, — вздохнула Милентьевна. — Мало ли чего меж своих не бывает.
— Меж своих… Да ведь этот свой мало тебя не убил!
— А раз мало, то не в счет.
Черные сухие глаза Евгении неистово округлились.
— Я не знаю, ты, мама… Уж все вкось да поперек. Может, скажешь еще, что ничего и не было? Может, и головная трясучка у тебя не после этого?
Евгения заправила тыльной стороной руки выбившуюся прядку волос за маленькое ухо с красной сережкой-ягодкой и, видимо, решив, что от свекрови все равно никакого толка не будет, начала рассказывать сама.
— Шестнадцати лет нашу Милентьевну взамуж выпихнули. Может, еще и грудей-то не было. У меня не было в эти годы, ей-богу. А про то, как девка жить будет, про то разве раньше думали? Отец, родимый батюшко, на житье женихово, позарился. Один парень в доме, красоваться будешь. А какая краса, когда дикарь на дикаре вся деревня?
— Да, может, хоть не вся, — возразила Милентьевна.
— Не защищай, не защищай! Кто хошь скажет. Дикари. Да и я помню. Бывало, к нам в праздник в большую деревню выберутся — орда ордой. Все скопом — женатые, неженатые. С бородами, без бороды. Идут, орут, каждого задирают, воздух портят-па всю деревню пальба. А дома у себя — никто не видит — и того чище. Уж каждый с какой-нибудь придурью да забавой. Один в сарафане бабьем бегает, другой — Мартынко-чижик был — все на лыжах за водой на реку ходил. Летом, в жару, да еще шубу наденет, кверху шерстью. А Исак Петрович, тот опять на архиерее помешался. Бывало, говорят, вечера дождется, лучину в передних избах зажгет, набивник синий на себя наденет — сарафан бабкин — да ходит-ходит из избы в избу, псалмы распевает. Так, мама? Не вру?
— Люди не без греха, — уклончиво ответила Милентьевна.
— Не без греха! Каки таки грехи у тебя в шестнадцать лет были, чтобы из ружья стрелять? Нет уж, такая порода. Весь век в лесу да в стороне от людей — поневоле начнешь лесеть да сходить с ума. И вот в такой-то зверушник да девку в шестнадцать лет и кинули. Хошь выживай, хошь погибай — твое дело. Ну, мама у нас решила перво-наперво свекра да саекровь на свою сторону перетягивать. Им угоду делать. А чем можно было перетянуть стариков в бывалошное время? Работой. И вот новобрачные в первую ночь милуются да любуются, а Василиса Милентьевна у нас встала ни свет ни заря да за реку по грибы. Осенью тебя, мама, в это время выдали?
— Кажись, осенью, — не очень охотно ответила Милентьевна.
— Да не кажись, а точно, — убежденно сказала Евгения. — Летом-то много ли в лесу губ, а ты ведь коробку-то наломала за час-за два. Когда тебе было расхаживать по лесу, когда тебя муж дома ждет? Ну вот, возвращается у нас Милентьевна из лесу. Рада. Ни одного дыма над деревней нету, все еще снят, а она уж с грибами. Вот, думает, похвалят ее. Ну и похвалил. Только она переехала за реку да шаг какой ступила от лодки-бух выстрел в лицо. Грозный муж молодую жену встречает…
У старой Милентьевны, как веревки, натянулись жилы на худой морщинистой шее, сгорбленная спина выпрямилась-она хотела унять дрожь, которая заметно усилилась. Но Евгения ничего этого не видела. Она сама не меньше свекрови переживала события того далекого утра, известные ей по рассказам других, и кровь волнами то приливала, то отливала от ее смуглого лица.
— Бог, бог отвел смерть от мамы. Далеко ли от огорода до бани? А мама как раз к бане подошла, когда он ружье-то на нее навел, да, видно, рука-то после пьянки взыграла, а то бы наповал. Дробь и теперь в дверке у бани сидит. Не видал? — обратилась ко мне Евгения. — Посмотри, посмотри. Меня муженек сюда первый раз привез, куда, думаешь, перво-наперво повел? Терема свои показывать? Золотой казной хвастаться? нет, к бане черной. «Это, говорит, мой отец мать учил…» Вот какой лешак! Все, все у них тут такие. По каждому кутузка плачет…
Я видел: старая Милентьевна давно уже тяготится этим разговором, ей неприятна наша бесцеремонная назойливость. А с другой стороны — как остановить себя, когда ты уже целиком захвачен этой необычной историей? И я спросил:
— Да из-за чего же весь этот сыр-бор загорелся?
— Пальба-та эта? — Евгения любила все называть своими именами. — Да из-за Ваньки-лысого. Вишь он, лешак, прости господи, неладно бы так своего свекра называть, хватился утром-то… Где вы, мама, спали? На повети? Туда-сюда рукой — нету. На улицу вылетел. А тут и она, молодая жена. Из заречья идет. Вот он и взбеленился. А, думает, так-перетак, к Ваньке-лысому ездила? На свиданье?
Милентьевна, к этому времени, должно быть, опять овладев собой, спросила не без издевки:
— А ты и про то знаешь, что твой свекор думал?
— Да почто не знать-то. Люди соврать не дадут. Иван-лысой, бывало, напьется: «Ребята, я смолоду в двух деревнях прописан: телом дома, а душой в Пижме». До самой смерти говорил. Красивой мужик был. Ох, да чего рассусоливать. Женихов косяк у мамы был. За красоту и брали. Вишь ведь, она и теперь у нас хоть взамуж выдавай, — польстила свекрови Евгения и, кажется, впервые за все время, что рассказывала, улыбнулась.
Затем, как-то жеманно, с прищуром поведя своим черным безрадостным глазом, заговорила игриво:
— Ну, а тебя, мама, тоже не хвалю. Уж как ни молода была, а должна понимать, для чего взамуж берут. Всяко, думаю, не для того, чтобы по грибы в первую ночь бегать…
Ох, как тут сверкнули тихие голубые глаза у старой Милентьевны! Будто гроза прошла за окошками, будто там каленое ядро разорвалось.
Евгения сразу смешалась, поникла, я тоже не знал, куда девать глаза. Некоторое время все сидели молча, с особым старанием выбирая сор из грибов.
Милентьевна первой подала голос к примирению. Она сказала:
— Сегодня я уж вспоминала свою жизнь. Хожу по лесу да умом-то все назад дорогу топчу. Семой десяток нынче пошел…
— Седьмой десяток, как вы вышли замуж за Пижму? — уточнил я.
— Да хоть не вышла, а выпихнули, — с легкой усмешкой сказала Милентьевна. — Верно она говорит: не было у меня молодости. И по-нонешнему сказать, не любила я своего мужа…
— Ну вот, — не без злорадного торжества воскликнула Евгения, — призналась! А я рта не раскрой. Все не так, все не ладно.
— Да ведь когда по живому-то месту пилят, и старое дерево скрипит, еще примирительней сказала Милентьевна.
Грибы подходили к концу.
Евгения, поставив на колени пустую коробку, начала выбирать из грибного мусора ягоды — мокрую, переспелую чернику и крупную, в самой поре бруснику. Она все еще дулась, хотя нет-нет да и бросала время от времени любопытные взгляды на свекровь — та опять принялась за прошлое.
— Старые люди любят хвалить бывалошные времена, — говорила Милентьевна негромким, рассудительным голосом, — а я не хвалю. Нынче народ грамотной, за себя постоит, а мы смолоду не знали воли. Меня выдали взамуж — теперь без смеха и сказать нельзя — из-за шубы да из-за шали…
— Неужели? — в страшном волнении воскликнула Евгения. — А я и не слыхала.
От ее недавней сердитости не осталось и следа. Жадное бабье любопытство, столь глубоко укоренившееся в ее натуре, взяло верх над всеми другими чувствами, и она так и впилась своим пылающим взглядом в свекровь.
— Так, — сказала Милентьевна. — Отец у нас, вишь, строился, хоромы возводил, каждая копейка была дорога, а тут я стала подрастать. Бесчестье, ежели дочь на игрище выйдет без новой, шубы и шали, вот он и не устоял, когда из Пижмы сваты приехали: «Без шубы и шали возьмем…»
— А братья-то где были? — опять, не выдержав,