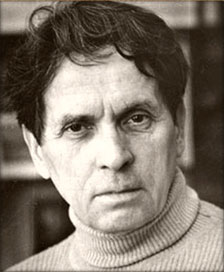грабли. Нет, из-за леса выкатилась тучка одна, другая, дунул, крутанул ветришко, и вот уже залопотали, завсхлипывали березы.
И ведь что удивительно! Кабы так везде, по всем речкам. А то только у них на Марьюше.
Измотанный, издерганный ненастьем Михаил только что не запускал в небо матом: четыре гектара было свалено самолучшей травы – и четыре гектара гнило. Просто на глазах белела выкошенная пожня.
Душу отводили у Калины Ивановича, благо Евдокия из-за козы, сломавшей ногу, в эти дни сидела дома. Игнат Поздеев, Филя-петух, Аркадий Яковлев, Чугаретти – все хорошо знакомые Петру, заметно постаревшие, все, кто сенокосил на Марьюше, сходились под вечер к старику.
Сидели под елью, жгли сигареты и папиросы, ерничали, заводили друг друга, травили анекдоты, иногда слушали «клевету» (Михаил частенько захватывал с собой транзистор), а больше перетряхивали жизнь – и свою пекашинскую, и в масштабах страны, и в масштабах всего шарика.
Да, и шарика. А что? Газеты читаем, радио слушаем, людей, которые бывали за границей, видали – имеем понятие? А потом, кто мы теперь – ха-ха? Его величество рабочий класс. Гегемон. Хозяин страны. Положено, черт возьми, ворочать мозгой?
Ух и заводились! Ух и вскипали!
Почему, почему, почему… Целый лес «почему»!
Ничего нового для Петра в этих кипениях, пожалуй, не было. Где теперь не говорят об этом! Вся Россия – сплошная политбеседа.
Но Калина Иванович – вот с кого не спускал Петр глаз!
Он ведь раньше думал: комиссары, гражданская война – все это древняя история, обо всем этом только в книжках прочитать можно. И вдруг на тебе живой комиссар. Да где! У них на Марьюше, в сенной избушке. С косой, с граблями в руках.
Распаленные мужики трясли и рвали Калину Ивановича нещадно: дай, ответ. А как давать ответ, когда он сам ни за что ни про что столько лет отстукал в местах не столь отдаленных!
Калина Иванович отвечала моя эпоха, я в ответе. И даже в том, что его самого за проволоку посадили, даже в этом видел собственную вину. Так и сказал:
– Да, в этом вопросе мы недоглядели.
Однажды, когда страсти особенно раскалились, Филя-петух, не без страха поглядывая по сторонам, заметил:
– Вы бы потише маленько, мужики. Вишь ведь, ель-то даже притихла – в жизни никогда такого не слыхала.
– Слыхала, – сказал Калина Иванович. – Тут жаркие разговоры бывали.
– Когда?
– А когда царское правительство политических на Север ссылало. У нас в Пекашине в девятьсот шестом году двадцать пять человек было.
– Это ссыльных-то двадцать пять человек? В Пекашине? – Чугаретти, лицо черное, как у негра, голова седая ежиком, подсел поближе к Калине Ивановичу.
Легкая, чуть приметная улыбка тронула впалый аккуратный рот старика:
– Я тогда еще совсем молодым был, лет семнадцати, и, помню, тоже побаивался.
– Крепко высказывались?
– Крепко. Большой замах был. А зимой, когда их словесные костры разгорались, можно сказать, арктические холода от Пинеги отступали…
2
Ассамблеи под елью – Игната Лоздеева придумка – обычно заканчивались пениями.
Пели про Стеньку Разина, про Ермака, пели старые революционные: «Смело, товарищей, в ногу», «Наш паровоз, вперед лети» и непременно «Ты, конек вороной» – любимую песню Калины Ивановича.
Запевал Игнат Поздеев – у этого зубоскала-пересмешника с длинной, по-мальчишечьи стройной шеей красивый был тенор. Тихо, мягко, откуда-то издалека-далека, будто из самых глубин гражданской войны, выводил:
Сотня юных бойцов из буденновских войск
На разведку в поля поскакала…
Потом вступали остальные.
Удивительно, что делала с людьми песня!
Еще каких-то десять – пятнадцать минут назад сидели, переругивались, язвили друг друга, а то и кулак увесистый показывали, а тут разом светлели лица, голоса сами собой приходили в согласие, в лад.
Калина Иванович тоже подпевал, хотя его старого, надтреснутого голоса почти не было слышно. Но подпевал, пока дело не доходило до его любимого «Конька». А запевали «Конька» – и он плакал. Плакал беззвучно, по-стариковски, не таясь, не скрывая слез.
И тогда Петр вдруг замолкал и видел только одно лицо – лицо Калины Ивановича, старое, мокрое, озаренное пламенем костров – нынешнего, живого, и тех далеких-далеких, что горят в веках.
3
Часом-двумя позже они лежали в своей избе.
В темном углу у дверей металась малиновая папироска, слова летели оттуда раскаленными ядрами – Михаил всю жизнь прожитую выворачивал наизнанку.
А Петр молчал. Он не мог говорить. Он все еще был в песне, в молодости Калины Ивановича и, как молитву, шептал про себя предсмертные слова юного комсомольца:
Ты, конек вороной, – передай, дорогой,
Что я честно погиб за рабочих.
Калине Ивановичу в гражданскую войну было столько же, сколько ему сейчас, даже меньше, а какие дела творил! На каких крыльях парил! И жалкой и ничтожной представлялась Петру собственная жизнь.
ФЗУ, армия, ученье, работа на заводе… А еще что? Еще чем вспомнить свою молодость? Сверстники ехали на целину, на стройки, шатались по Крайнему Северу, Сибирь собственными ногами мерили, а он, как собака на цепи, возле больного брата…
– Кой черт молчишь? – Михаил заорал уже так, что песок посыпался со старого потолка. – Почему, говорю, после войны людей досыта нельзя было накормить? Боялись, что советский человек вместе с буржуйским хлебом буржуйскую заразу проглотит? Але тебя это не касается? Ты не голодал?
– Да не в голоде дело! – Петр тоже вспылил.
– Не в голоде? В чем?
– В чем, в чем… В гражданскую войну тоже немало голодали. Четвертушку хлеба получали. А про голод сегодня пели?
– А-а, дак ты вот о чем… – Михаил немного помолчал. – Песни-то мы все умеем петь. А тебя учили, я думаю, не песни петь…
Петр не сумел толком ответить. Он всегда терялся, когда брат взрывался и начинал кричать. Да и в двух словах тут не ответишь. О разном думали они сейчас с братом.
Михаил вскоре захрапел – он не любил неопределенности: говорить так говорить, спать так спать, – а Петр еще долго лежал с открытыми глазами.
Под ухом надоедливо попискивал заблудившийся в темноте комарик, поднять бы руку, прихлопнуть – заворожила песня, околдовали слова:
Он упал возле ног у коня своего
И закрыл свои карие очи.
«Ты, конек вороной, передай, дорогой,
Что я честно погиб за рабочих».
И он, взрослый человек с залысинами на лбу, с отчетливо наметившейся проталинкой на темени, отчаянно завидовал молодому, безвестному, безымянному пареньку, его славной смерти.
Была белая ночь, когда он вышел из душной избы. Лежавший в сенцах у порога пес вскинул было голову и тотчас опустил: не хозяин.
Он перешагнул за порог. Холодная зернистая роса омыла босые ноги, разгоряченное тело зябко свело от ночной свежести.
Тихо, так тихо, как бывает тихо только в белую ночь.
Избушку Калины Ивановича на том конце просеки из-за тумана не видать. Но сама просека не в тумане. И белые верхушки наспех срубленного Михаилом кустарника горят в алом свете непотухающей зари, как кавалерийские пики…
Да, думал Петр, пройдут года, пройдут века. Будет все та же белая ночь, будет все та же Марьюша, наверняка расчищенная, разделанная, без этого нынешнего позора и запустения, а что останется от них, от людей? О них какую будут петь песню?
4
Сеногной кончился к пятнице. Огнистое светило с самого утра утвердило себя в небе и ни с места. Никаких уступок мокряди.
Сеноставы на Марьюше ожили, а Михаил, тот просто помолодел. Все дни были зарубы поперек лба, а теперь растаяли, смыло потом.
Но вот пошли времена! В субботу – шабаш. До обеда гребли, метали, делали каждый что надо, а с обеда запокрикивали: «Родька, Родька! Где Родька?»
– Да, так у нас ноне, – сказал Михаил. – Сев не сев, страда не страда, а в субботу двенадцать часов пробило – домой. В баню. А в воскресенье, само собой, вылежной.
– Но ведь есть постановление: в страдные дни рабочий день увеличивается, а отгул потом.
– Постановление… Постановление есть, да нынче люди сами постановляют…
Родька, конечно, перво-наперво подкатил к ним. И как подкатил! Напрямик, через ручьи и грязи, где и на телеге-то не скоро проскочишь.
Михаил, когда услыхал надрывный вой и моторные выстрелы рядом в ольшанике, взвыл:
– Ну, сукин сын, завязнет! Придется всей Марьюшей вытаскивать.
Не завяз. Вырвалась из кустов машина – вся по уши в грязи, но с красной победной веточкой смородины на радиаторе.
– Тпру! – закричал Михаил весело. Он любил лихачей.
Родька еще поддал жару: сделал разворот во всю пожню. Перемял, перепутал грязными колесами все несгребенное сено. И Петр подумал: ну, сейчас достанется парню.
Слова не сказал Михаил – только головой покачал.
Родька выскочил из кабины – глаз черный блестит и улыбка во все смуглое запотелое лицо.
– Привет, привет, племянничек! – сказал Михаил, протягивая ему руку, и тоже начал улыбаться. Петра Родька тоже зачислил в свои родственники:
– Как жизнь молодая, дядя Петя? Не свои, чужие слова, даже фамильярные, а Петру было все-таки приятно.
– Ну, чаем тебя напоить, Родион? – спросил Михаил.
– Нет, нет! – Родька замахал обеими руками. – У меня еще сколько объектов! – Затем повертелся-повертелся чертом и вдруг – бутылку. Выхватил неведомо и откуда. Как фокусник. – А это тебе, дядя Миша. Персональный подарочек от меня.
– Ну это ты зря, зря, Родион. Ни к чему, – запротестовал было Михаил, но бутылку в конце концов принял: парень неплохо зарабатывает – не разорится.
Через минуту Родька уже восседал за рулем.
– Собирайтесь! А я моменталом. Через полчаса буду у вас.
– Я, пожалуй, воздержусь, – сказал Михаил. – И без меня полный кузов наберется. А вот его забери. – Михаил с доброй усмешкой кивнул на Петра. Он ведь там, в городе, тоже привык к выходным.
– Ну это как сказать…
– Ладно, ладно, пошутить нельзя. Поезжай. Чего тут париться. Недельку повтыкал – и хватит.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
1
Родька подкатил к самому дому, и Петр, выскочив из кабины, только что не попал в объятия к своим.
Все – сияющая сестра с зареванными двойнятами на руках, кротко и, как всегда, виновато улыбающийся брат, Мурка, молоденькая черная кошка с белыми передними лапками, – все вышли встречать его. Встречать как своего кормильца, как свою опору, и вот когда он почувствовал, что у него есть семья…
– Что долго? Мы ждем-ждем, все глаза проглядели. У нас и баня вся выстыла.
Баня, конечно, не выстыла. Это сестра выговаривала ему по привычке, для порядка, и каменка зарокотала, едва он на нее плеснул.
Он не сразу решился взяться за веник. Прокалило, до самых печенок прожгло за эти дни, и уж чем-чем, а жаром-то он был сыт. Но свежий березовый веничек, загодя замоченный сестрой, был так соблазнителен, такая зеленая, такая пахучая была вода в белом эмалированном тазу, что он невольно протянул руку, махнул веником раз, махнул два – и заработал…
Его шатало, его покачивало, когда он вышел в открытые, без дверей сенцы. Семейка молоденьких рябинок подступала к старенькому, до седловины выбитому ногами порожку, на который он сел. В прогалинах зеленого кружева листвы сверкала далекая, серебром вспыхивающая Пинега, лошадиное хрумканье доносилось снизу, из-под угора, и так славно, так хорошо пахло разогретой на солнце земляникой…
Вдруг