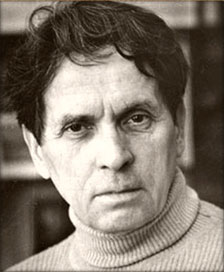он порядком истосковался в Москве, Михаил и не заметил, как подъехал косильщик. Увидел, когда тот его окликнул.
– Какой я тебе, к дьяволу, дядя? Племянничек выискался!
Но черта с два смутишь Борьку! Сверкнул на солнце белыми жерновами – не рот, а целая мельница, вывернул:
– А чего? Сам же в позапрошлом годе сказал: зови дядей Мишей. Не помнишь, на Октябрьской супротив школы пьяный встретился?
Михаил не помнил. Но, может, и говорил. Находила на него иной раз блажь – комок к горлу подступал, когда встречал Егоршина отпрыска: вроде и ничего общего с отцом – коренастый, весь как веревка, как узловатая сосна, свит из мускулов, глаза круглые, рысьи, – но ему вдруг приходил на память Егорша, ихняя дружба-товарищество, и срывались, срывались с губ непрошеные слова. Но это случалось с ним редко, только в пьяную минуту, а в обычное время он видеть не мог это отродье. Потому что как забыть? Не успел откочевать в том памятном пятидесятом году Егорша из района, как начала пухнуть Нюрка Яковлева, а потом – нате – получайте Бориса Егоровича, новоиспеченного братца Васи.
Борька подошел развалистой походочкой, с ухмылкой, закурил – как откажешь? – но когда, выпустив дым изо рта, чисто по-отцовски цыкнул слюной сквозь зубы, Михаил заорал как под ножом:
– Ты в городу вырос, что ли? Какого дьявола мучишь лошадей? Вишь ведь, они все в мыле!
Борька с показным интересом посмотрел на луг, пожал плечами – вроде как не понял, о чем речь, – и тогда Михаил уже совсем вышел из себя:
– Я говорю, есть, нет у тебя башка на плечах? Почему в такое пекло не от горы косишь? Не видал, как люди делают?
– Да будет тебе разоряться-то! Теперека не старые времена всем-то командовать.
– Что?
– Не демократия, говорю, колхозьска, – без малейшей задержки выпалил Борька. Знал, гад, как отец, знал нужные слова и, как отец, умел сказать их к месту. – Есть у нас начальников-то. Немало. Деньги за это получают.
– А раз начальник не видит – делай что хочу?
Борька примирительно ухмыльнулся:
– Да хватит, говорю, честных-то тружников калить. Этих одров, – он кивнул на блестевших на солнце запаренных лошадей, – все равно осенью на колбасу погонят. Ты бы чем подрастающему поколению разгон давать, сестре своей приструнку дал.
– Это какую же приструнку? Насчет дома? – Михаил слышал от людей: подала Борькина мать заявление в сельсовет – требует своей доли в ставровском доме.
– А чего? Я сын родной, а какие ейные права? Она теперека сбоку припека…
У Михаила заходили глаза, запрыгали губы – какими бы поувесистее словами оглушить этого гаденыша, чтобы у него раз и навсегда отбить охоту заводить разговор насчет ставровского дома? И вдруг, глянув в сторону своего дома, увидел на угоре двух мужиков с вьющейся вокруг них, как белый мотылек, Анкой. Братья, братья приехали! Петр и Григорий…
И тогда все разом вылетело из головы: и ставровский дом, и изгородь, и Борька, – и он со всех ног бросился навстречу уже сбегавшим с угора своим дорогим двойнятам.
ГЛАВА ВТОРАЯ
1
– Так, так, браташи! Собрались, значит, к брату-колхознику? Нет, ребята, теперь не к колхознику надо говорить. К совхознику. Кончилась колхозная жистянка… Долгонько, долгонько собирались. Когда в последний раз виделись? Семь лет назад, когда матерь хоронили? Так?
– Так.
– Да, – вздохнул Михаил, – не пришлось покойнице пожить в новом доме. И вслед за тем горделивым взглядом обвел горницу, или гостиную, как сказали бы в городе.
Все новенькое, все блестит: сервант полированный с золотыми рифлеными скобками, полнехонький всякой посуды, диван с откидными подушками, тюлевые занавески на окнах, ковер с красными розами во всю стену – подарок Раисе от Татьяны… В общем, обстановочка – в городе не у каждого. И он подивился, покосившись на братьев. Пестрые застиранные ковбоечки, в каких у них на работу ходят, парусиновые туфельки… А насчет барахлишка и подавно говорить нечего. С рюкзачками, с котомочками заявились. Да у них сейчас в Пекашине самая распоследняя сопля без чемодана шагу не ступит!
– Давай, – Михаил поднял стопку, – со свиданьицем! – И предупредил, с подмигом кивая на стол: – Это мы так покудова, для разминки, как говорится, а основное-то у нас вечером будет…
Петр выпил – всю, до дна стопку осушил, – а Григорий только виновато улыбнулся.
– Ну нет, так у нас не пойдет. Да ты откуда такой взялся? К старшему брату в гости приехал але в монастырь?
– Знаю. А у него у самого-то язык есть?
И опять ни слова, опять кроткая, виноватая улыбка обмыла льняное лицо Григория.
А в общем-то, с Григорием ясно. Все такой же двойняшка. Худущий, насквозь просвечивает. Просто святой какой-то, хоть на божницу ставь вполне за икону сойдет.
А вот Петр… К Петру не знаешь как и подобраться, за что уцепиться. Как речной камень-голыш, который со всех сторон водой обточило. Или это все оттого, что бороду отпустил? Бородка аккуратненькая, с рыжим подпалом, как у царя Николашки, которого в семнадцатом году сковырнули. Татьянин муж деньги старые собирает, так он, Михаил, насмотрелся на этого бывшего царя.
– Ты это бородой-то обзавелся, чтобы от брата отгородиться? по-доброму пошутил Михаил. – Ну правильно. А то ведь, бывало, не то что чужие, я, родной брат, не каждый раз угадаю, кто из вас Петька, кто Гришка. Ей-богу!
– А я сразу угадала, который дядя Гриша, – сказала Анка.
– Как?
– Тетя Лиза сказывала.
Михаил не стал уточнять у дочери, что сказывала тетя Лиза. С него довольно и того, что произошло с братьями при одном упоминании имени сестры. Оба вдруг ожили, оба вдруг глазами в него. И было, было у него искушение рубануть со всего плеча, ведь все равно придется говорить, но вместо этого он закричал на весь дом:
– Эй ты там! Уснула?
И тут с кухни наконец пожаловала Раиса, прямая, статная, и принарядилась – уважила гостей. Но голову от миски с мясом отвернула видно, и в самом деле понесла.
Михаил, довольный, заржал.
– Предлагаю выпить за будущего солдата!
– За кого? За солдата? – переспросил Петр.
– Чуваки! У нас со старухой на эту пятилетку твердое задание наследника!
– Не плети чего не надо! При ком язык-то распускаешь?
Михаил смущенно крякнул, поглядел на младшую дочь, пристроившуюся возле дяди Гриши, сразу, с первой минуты к нему присосалась, дал команду – на улицу.
Когда закрылась за Анкой дверь, притворно вздохнул:
– Вот так и живем, браташи. Совсем заездила супружница.
– Тебя заездишь! Ты в эту Москву слетал – совсем ошалел.
– Да, ребята, слетал. Повидал белый свет! – Михаил встал, принес из спальни увесистый альбом в дорогих бархатных корках, с золочеными буквами, трахнул по столу. – Вот мое пребывание в столице нашей родины. Татьяна тут все моменты зафотографировала.
Карточек было много. Михаил с сестрой, Михаил с зятем, Михаил со сватом, то есть со свекром Татьяны… Само собой, был увековечен Михаил в пестрой толпе и у ленинского Мавзолея с двумя замершими у дверей часовыми-гвардейцами, и возле знаменитых фонтанов на выставке, и возле царь-пушки.
– Да, ребята, золотой билет вытащила наша Татьяна. Я три недели у ей пожил – ну, скажу, в коммунизме побрал. Ей-богу. Без пивка да без водочки за стол не саживался. Дача двухэтажная, квартира пять комнат, машина, прислуга… Помните, как, бывало, Татьяна Ивановна зимой за хлев босиком бегала вместе с вами? А теперь – подай, поднеси. Да на блюдечке… В газетах-то читаете? «Высоких гостей на Внуковском аэродроме встречали товарищи… маршалы, а также деятели культуры и другие представители общественности столицы…» Ну дак в этих «других представителях» и наша Татьяна. Два раза при мне на этот Внуковский аэродром каталась. Со свекром.
– Со свекром? – удивилась Раиса. – Пошто со свекром-то? Разве мужика у ей нету?
Михаил насмешливо постучал кулаком по столу.
– Темнота пекашинская! Мужик-от у ей есть, и мужик – душа-человек, видела ведь, чего спрашиваешь? Да на этот аэродром не за душу пускают. Говорю, Борис Павлович, свекор ейный, шишка большая, всема каменными памятниками заправляет, а ему положено с супругой. Ну а он как человек вдовый Татьяну за собой волокет. Дошло теперь?
– Я не знаю, что за такой муж, – не унималась Раиса, – жену одну отпущает…
– Да не одну, с отцом! Чем слушаешь-то? Хороший старикан. Меня все кумом называл. «Ну как, кум, твердо решил: никуда не годится шампань?» Подшучивал, сам только шампанское примает. А у меня дак с этой шампани брюхо, ребята, пучит, пьешь-пьешь его – все без толку. Да я и клоповник этот, коньяк, не больно уважаю. Я пивко да водочку лучше всего. А муж у Татьяны, тот только шипучую водичку. Ни грамма спиртного. – Михаил покачал головой. – Вот человек для меня загадка! Не видали его? Хрен его знает, как вам сказать… Сказать чтобы больно умен, ума палата… Летом, видали, по деревням ездят-шныряют – прялки, ложки, туеса, всякое старье собирают? Дак он из тех самых старьевщиков… Иконы особенно уважает.
– И что он с этими иконами делат? – спросила Раиса. – Молится?
– Ну, он молится-то, положим, на другие иконы. Представляете, – Михаил игриво подмигнул братьям, – на каждой стене Татьяна. И в нарядах и без нарядов. По-всякому… В умывальнике, и в том Татьяна… На белом кафеле эдакая картиночка…
– Ну, хорошему, хорошему научит племянниц тетушка.
– А не возражаю. Хорошо бы хоть одна пошла в тетушку. Вера и Лариса у меня ведь в Москву уехали, – пояснил Михаил братьям. – Отец из Москвы, а дочери в Москву. Вот так ноне у Пряслиных.
Хоть какое бы впечатление! Хоть бы один вопрос! Как там Татьяна? Что? Девка, прямо скажем, на небо залезла. Гордиться такой сестрой надо, бога молить за нее. А брат ихний почти целый месяц в Москве выжил – это как? Тоже неинтересно? Правда, с одной стороны, такое безмолвие близнят льстило ему. Года годами, образование образованием, а не забывайся, кто говорит. Брат отец. А с другой стороны, где они сидят? На встретинах или на бывалошном колхозном собрании, на котором районные уполномоченные выколачивают дополнительные налоги или заем? Да, там боялись рот раскрыть, потому что, что бы ты ни сказал – против, за, – все худо, за все взыск: либо от начальства, либо от своего брата-колхозника…
А-а, догадался вдруг Михаил, дак это вот что у них на уме… И больше уж не церемонился. Стиснул челюсти, процедил сквозь зубы:
– Сестры, о которой вы тут про себя вздыхаете, у меня больше нету. Скоро два года как к дому своему близко не подпускаю.
Григорий зажмурился – с детства от всех страхов закрытыми глазами спасался, – а у Петра будто лоб распахали – такими морщинами пошла кожа.
– Да разве вам она не писала? – спросил донельзя удивленный Михаил.
– Ну и ну, вот это терпенье, – по-бабьи запричитала Раиса. – Тут не то что люди – кусты-то все придивились.
– В общем, так. – Михаил налил водки в