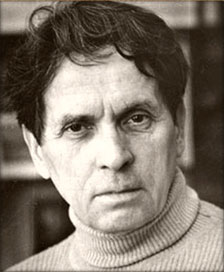Точно, Антон Таборский взбегал на сцену. Поначалу, как все, надел очки, развернул бумажку, дал запев:
– Товарищи, обсуждаемое постановление – это документ огромного исторического значения, новое проявление заботы… новый вклад…
В общем, не придерешься – не вышел из установленной борозды, сказал все нужные слова, а потом бумажку в сторону, бах:
– Для русского Ивана это постановление, скажем прямо, самое трудное постановление изо всех постановлений, какие были и какие еще будут, под корень режет…
Смех, хохот, топот. Даже в президиуме заулыбались – белой подковой просиял зубастый рот на смуглом лице первого секретаря.
– А чего смеяться-то, дорогие товарищи? – Таборский прикинулся дурачком: великий мастер по части прикидона. – Плакать надо. Ведь кабы мы как люди пили, кто бы нам чего сказал? А то ведь мы все наповал, все до схватки с землей…
– Давай по существу, товарищ Таборский, – мягко поправил первый секретарь.
Таборский секунды не задумывался – всегда слово на языке:
– А по существу, Григорий Мартынович, все в докладе райкома сказано. А наше дело известно – выполняй. Ставь первым делом ограничитель у себя в горле да мобилизуй массы.
Тут уж не смех, одобрительный гул прошел по залу – всем понравилось, что Таборский не отделяет себя от других, не корчит из себя трезвенника.
– Ну а в части конкретных предложений, товарищи, – Таборский поискал кого-то глазами в зале, – то я целиком и полностью согласен с Марьей Федоровной, нашей заслуженной учительницей РСФСР. Замечательно, в самую точку сказала Марья Федоровна: одной силой бутылку не сокрушишь. Она сама кого хошь с ног валит. Надо, понимаете ли, культуру двинуть на эту зеленоглазую стерву. Да по всему фронту. А то у нас что получается? Пекашино взять, к примеру. Клуб новый построили – спасибо, а про самодеятельность и забыли. Вот наши мужики, понимаете, и прутся к Петру Житову в ресторан «Улыбка», чтобы свою самодеятельность развернуть…
Таборского проводили с трибуны аплодисментами. И, честное слово, будь у Михаила рука здоровая, он бы тоже ударил в ладоши. Прохвост, сукин сын, жулик из жуликов, а вышел на трибуну – и свежим ветром дохнуло.
2
С Костей Тюряпиным Михаила свела жизнь еще в сорок четвертом году на сплаве – тогда под Выхте-мой они до самой ледяной шуги бродили с баграми в Пинеге, приказ родины выполняли: всю, до последнего бревна древесину пропихать через выхтемские мели. И попервости после войны, когда сталкивались в райцентре, всегда вспоминали те дни. Да и вообще им было о чем поговорить: у обоих отцы на войне убиты, обоим семьи многодетные пришлось вытаскивать на своем горбу. А потом начались кукурузные дела, Михаила с треском, с пропечаткой в районке и областной газете сняли с бригадиров, и Тюряпин замкнул свои уста: кивать при встрече кивал, а звук пропал начисто.
И вот сейчас, попыхивая папироской в шумном, переполненном людьми вестибюле – весь зал сюда высыпал, – Михаил припомнил все это и вдруг подумал: а может, не ходить? Может, дать поворот на сто восемьдесят градусов – и будьте-нате? В случае чего всегда можно отбрехаться: забыл, болен, на автобус торопился. Да и вообще с каких это пор у Тюряпина дела к нему?
Пошел. Терпеть не мог трусов.
– Заходи, заходи, товарищ Пряслин, – встретил его Тюряпин и кивнул на стул у дверей. – Присаживайся.
Михаил сел.
Тюряпин, не глядя на него, зашелестел бумажками. Ручищи большущие, суковатые, сразу видно, что не от карандашика жить начал, плечи в развороте на метр, а вот головка какой была, такой и осталась – малюсенькая, с рыжим хохолком, и Михаил невольно скосил глаз на вешалку в углу возле дверей, где висела шляпа: какой же, интересно, он размер носит?
Тюряпин прокашлялся.
– С тобой, товарищ Пряслин, первый собирался потолковать, да у Григория Мартыновича сегодня, вишь, народ, руководители производства…
Михаил ждал. Второй раз называл его Тюряпин товарищем, а это не предвещало ничего хорошего.
Так оно и оказалось.
– Претензии к тебе, товарищ Пряслин. И очень серьезные претензии. По части производственной дисциплины… – Тут Тюряпин поднял наконец свои глаза. – Работать людям мешаешь…
– Это кому мешаю? Таборскому? – Михаил сразу понял, откуда ветер дует.
– Таборский у нас, между прочим, не последний человек в Пекашине. Может управляющий работать, когда рабочие не едут на дальние сенокосы? А пожар? Имей в виду: за уклонение от пожара у нас закон ясный– суд. – Тюряпин разжег наконец себя. И глаз поставил – в упор смотрел.
Но и Михаила заколотило. Потому что все это вранье и брехня от начала до конца. Русским языком было сказано этому Таборскому: нынче на Верхнюю Синельгу не поеду. Может он за тридцать лет хоть одну страду возле дома потолкаться, тем более что братья приехали? А насчет пожара и вовсе ерунда. Когда это он от пожара уклонялся? Как он мог с порезанной-то рукой на пожар ехать?
– А на Марьюшу мог? – опять прижал его Тюряпин.
– И на Марьюшу не мог. Да потому что осел, потому что дурак законченный. Думаю, хоть одной рукой сколько пороблю. А Таборскому, видишь, лучше, чтобы я и на Марьюшу не ездил. Ничего, придет время, вот помяните мое слово, сами погоните этого жулика. Баснями-то все время сыт не будешь.
Тюряпин спросил:
– Яковлева Ивана Матвеевича знаешь?
– Знаю. А чего?
– Ничего, крутит колеса.
– А Палицын Виктор? Михаил пожал плечами.
– А Сергей Постников?
– На поряде парень. Бутылку стороной не обходит, но нет этого, чтобы по неделям зашибать.
– Дак вот, товарищ Пряслин. – Тюряпин сделал выдержку. – Не управляющий жалуется на тебя, а механизаторы. Вот под этим заявлением, – Тюряпин приподнял бумагу, – девять подписей. – «Примите меры… Срывает и дезорганизует производственный процесс…» Такие заявления, скажем прямо, не часто поступают в райком.
Михаил был оглушен, сражен наповал. С механизаторами, правда, у него бывали стычки – погано пашут, семена только переводят, а ведь без стычки какая жизнь? Неужели безобразие видишь – и молчать?..
– Дак съездил, говоришь, в Москву? Побывал в столице нашей родины?
Михаил поднял глаза на Тюряпина и себе не поверил: Тюряпин улыбался. И в голубых маленьких глазках его с желтыми цыплячьими ресничками чуть ли не мольба: дескать, не взыщи. Служба есть служба. А теперь, когда дело сделано, можно поговорить и по-товарищески, по душам.
Михаил решительно встал. Нет, такие фокусы не по нему. Либо – либо. Либо ты вместе с Таборским и со всей его жулябией, либо против. А крутить хвостом и вашим и нашим – не выйдет.
3
Редко кто из председателей так нравился Михаилу, как Антон Таборский.
Колхоз принял – все счета в банке арестованы, колхозникам за полгода ни копейки не плачено.
Не растерялся. Нашел деньги.
С леспромхоза арендную плату за склад у реки (десять лет с лишним не платили) взыскал, покосы по Ильмасу и Тырсе как заброшенные райпотребсоюзу загнал и еще сорок тысяч – новыми – слупил за лесок – украинцам продал, так сказать, в порядке братской помощи.
Любо стало при новом председателе и в колхозную контору зайти, а то ведь у Андреяна Матюшина, старого обабка, как было заведено? Я язвой желудка мучаюсь – и все кругом мучайтесь. Ни пошутить, ни посмеяться в конторе. Курить за дверь выходи. А с водворением Таборского, казалось, само веселье в Пекашино въехало. И никаких прижимов, никаких притеснений: сам цыган и другим цыганить не мешаю. Только не попадайтесь.
Вот по этому-то пункту у Михаила и начались первые «стыковки» с новым председателем. Раз сказал – механизаторы свое добро с колхозным путают, а попросту все домой тащат, что попадет под руку: бревна, запчасти, инструмент, сено, картошку, – два сказал, а третьего раза сами механизаторы ждать не стали – стеной, валом пошли на общем собрании: Пряслин технически малограмотен, Пряслин не обеспечивает руководство бригадой, Пряслин вносит разлад в коллектив…
Но окончательно раскусил Михаил Таборского позднее, когда началась эта кукурузная канитель.
Поверил попервости: хрен его знает, может, и в самом деле придумали наконец, как хлебом засыпать страну. Сделал все как требовалось: земля самолучшая, навозу – навалом и садили по веревочке – сам каждое зернышко в землю впихивал.
Не далась царица полей. Летом стали пропалывать – от сорняка не отличишь. И на второй год силу свою не показала. А на третий Михаил сказал: хватит! Без меня играйте в эту игру!
– Да ты с ума спятил! – попытался вразумить его Таборский. – Платят тебе по высшему тарифу – не все равно, какой гвоздь куда забивать?
– Не все равно.
– Ну смотри, смотри, Пряслин. За такие дела знаешь как у нас шлепают?
И шлепнули.
С этого времени у Михаила и пошла война с Таборским. И к нынешнему письму механизаторов – Михаил не сомневался – приложил свою лапу и Таборский. Расчет тут простейший: руками народа заткнуть глотку своему недругу. На всякий случай. Впрок. Загодя.
4
Водку в сельпо не продавали: нельзя! Собранье сегодня против водки, а ты вишь чего захотел? Но вскоре явилась знакомая продавщица и кое-как удалось выклянчить.
Михаил выпил бутылку не закусывая, прямо на ящиках за магазином – в это «кафе» он и раньше наведывался не раз, – подождал, пока всю сегодняшнюю муть не смыло с души, и, тихий, успокоенный, размеренным шагом пошел к заветному дому рядом с двухэтажным зданием, где когда-то помещалась школа.
Немо, пустынно было в заулке, поросшем зеленой травой, и он не таясь встал посреди него, поднял, глаза к горнице на втором этаже, к двум небольшим окошкам, в которые когда-то смотрела на белый свет она.
Здравствуй, сказал про себя. Я пришел. А затем он, как всегда, сидел на старом бревне у забора, где еще с прошлого раза валялись его окурки, и мысленно, как молитву, читал письмо, которое получил в бытность свою в армии.
«Миша, я долго не хотела тебя расстраивать, две недели думала, как быть, писать, нет, потому что кто не знает, каково солдатскую службу служить, ну больше не могу. Раз сам наказывал все писать как есть, без утайки, напишу. Хуже будет, ежели другие напишут. Да и чего, думаю, тебе больно-то убиваться, переживать – дело прошлое, семейный теперь человек. Жена эдакая краля – по всему району такой не сыщешь. И как любит тебя – я не знаю, каждый день высчитывает, только и говори у ей, что о тебе. Миша, поубавилось у нас народу в Пекашине, нет больше Варвары Иняхиной, царство ей небесное. И Григорий Минин, ейный проживатель, вскоре вслед за ней убрался.
Я эту Варвару, врать не стану, кляла всю жизнь, всю жизнь самыми последними словами называла, а теперь думаю, может, и зря называла. Может, и ее не очень солнышко на этом свете обогрело. Мужа убили на войне, Григорья не любила, от нужды связалась. Ладно, не давай ты мне плести чего не надо. Это ведь я на бабью-то слезу настроилась –