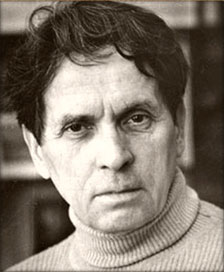взять? Да ради ребенка да отца чего не сделаешь? Ладно, принесла. Хлеб белый – я такого больше и не видала никогда, гуляш из мяска самолучшего – ох, вкуснота! А он глазищами уперся в газету, чего жует-ест, все равно. Сицилизм на уме, и мать, и, жена, и еда все побоку. Да ты, говорю, посмотри, чего ешь-то. Посмотрел. «А, такая-сякая, меня буржуйской отравой кормить!» Ногами стоптал, тарелка на пол, хлеб на пол. Ребенок в слезы: не смей и ребенок исть!
– Трудно теперь это понять, – сказал Калина Иванович.
– А-а, трудно!.. Ох, да голод-то бы уж ладно, не мы одни тогда голодали; да как супротив дунаевского-то шатанья бороться? Ведь мы только-только начали на заводе устраиваться, комнатушку каку-никаку дали, барахлишком обзаводиться стали, стол завели – нет, не сидится на одном месте. Жизнь ему не в жизнь, коли все ладно да хорошо. «Поедем, Дуня, киргизцам советскую власть ставить». Петр удивленно повел глазами:
– В тридцатые годы советскую власть ставить?
– Ну! На самой на границе. Басмачи лютовали – беда. Все – день, солнышко шпарит-жарит, и без того жизни нету, по целым часам в землянке глиняной спасаешься, да вдруг они. Ох! Как обвал каменный – с горы-то падут. На конях, сабли сверкают. А лютости-то, зверства-то сколько! Своих, черноволосых, и тех не пощадят, а уж нашего-то брата, русского, всех подчистую, да мало того что посекут, поубивают, еще изгиляться всяко, с живого ремни вырежут… Да… «Поедем, Дуня, советскую власть ставить». Не навоевался в гражданскую, опять руки зачесались. Облатко сманил. Такой же шатун был, как мой. Да еще и почище, может. Ох коммунист был! В котловане землекопом работал: ладно, Облат, сколько можешь, столько и ладно, непривычна твоя нация насчет лопаты. Глазищами черными засверкает – сгрызть готов. Не по ему такие слова. Во вторую смену останется, а задание сделает. И все с моим, все возле моего: «Моя русский язык хочет… Моя жизнь новый хочет…» И вдруг однажды видим… Облат расчет берет. Что такое? Куда собрался? Домой. Письмо из дому получил – председателя сельсовета басмачи убили, советскую власть порушили. Мой ночь не спал – забурлила, заходила шатуновская закваска, а наутро: «Поедем, Дуня… младшему брату помогать…»
– Да, я считал, что братская помощь – это первейший долг, – подал голос Калина Иванович.
– Черта ты считал! Бродяга потому что, шатун. Завод пущен, жизнь налаживаться стала, работать надо, жить надо – да разве это по тебе? Я десять ден не просыхала, по железной дороге ехали, а там жара зачалась – и плакать нечем, все слезы выгорели. Да, вот куда он нас завез. На край света, в пески раскаленные. Животину и ту скорежило, вот такие горбыли у верблюда, а человеку как в таком аду жить? Я сперва долго не понимала: чего, думаю, у людей глаза не как у нас – одни щелины? А потом, как в пески-то попала сама, в эти бури-то песчаные, поняла. С чего же тут глаза будут, когда все вприжмур, все скрозь щель смотришь… О, думаю, мы-то и подохнем – ладно, а ребенок-то за что такие муки должен принимать? Беда, беда. Губы запеклись, кора на губах нарастет вот такая, как у сосны, надо бы какое слово Фельке сказать, ребенок малый, а у матери и язык не ворочается. Дак я как немая, только руками к себе прижимаю: с тобой, Фелька, с тобой, не даст матерь тебе пропасть. А ночи-то в пустыне ночевать! Облат да отец как на песок пали, так и захрапели, а я всю ноченьку глаза нараспашку. Пауки всяки ползают, змеи. Так и шипят, так и трещит все кругом. А афганец-то, ветер-то тамошний! Раз, кажись, это уж в поселке было, на границе, все крыши подняло. Листы-то железные в воздухе летают, как мухи. А в пустыне-то эти ветра! Так засыплет, так залижет песком-то – назавра едва и откашляешься.
Месяц пять ден мы попадали. На верблюдах, на лошадях, так. Все высохли, все выгорели, как шкилеты стали… Бедный, бедный Облат… Хошь не наша нация, хошь завез нас на край света, а слова худого не скажу. Коммунист! Ох какой коммунист! В песках, бывало, ночь застанет: «Я, моя… моя у себя дома…» Ватник мне сует: сына, сына накрой. Что ты, Облатко, с ума сошел! Ночью в пустыне стужа, зуб на зуб не попадает, ты ведь тоже не железный. Нет, бери ватник. Сам замерзаю, а ребенок чтобы был в тепле. Да-а… Але насчет там еды – последнюю крошку отдаст. «Моя сыта, моя сыта… Моя дома…» Дома… Вылезаем на другой день из землянки: Облат – одна голова…
– Чего – одна голова? – переспросил Михаил. Он-то уже знал про страшный конец Облата, а Петр-то первый раз слышит эту историю.
– Убили, звери. Голову человеку отрубили. А мы с дороги спали как убитые, ничего и не знаем. Да. Приехали в темноте, нас в землянку завел: спите, отдыхайте с дороги. Моя дома, моя к своим пойдет… Вот и к своим. Сколько потом тело искали, не нашли, так одну голову и похоронили. Я обеима руками мужика обхватила: не пущу! Давай обратно, покуда живы! Малому ребенку ясно: предупрежденье. Убирайтесь, откуда пришли! А то и вам секир башка. Глазищами заводил: «Не смей, такая-разэдакая, позорить меня! Умру, а отомщу за Облата». И вот где ум у человека? Из конца в конец поселка прошел, в каждую землянку, в каждый дом стучится: выходите! Брат ваш врагом убит. А братья и не думают выходить. Что ты, они так запуганы этими басмачами – на глаза показаться не смеют. Только уж когда пограничники приехали, человек пять вышло… Да, вот в какие мы ужасы заехали. Я, три года жили, ночи ни одной не спала. Все прислушиваюсь, все думаю: вот-вот явятся, шаги учую. И сам не расставался с наганом. Спать ложимся, о чем первая забота? Где наган. Да, сперва оружье, а потом подушка, одеяло. Вот какая у нас жизнь была. А чего наган? На краю поселка жили – долго ли головы снести? Але сколько у меня переживаний было, когда он на стройку свою уйдет? Клуб первым делом решили делать, красный храм воздвигать. Не знаю, не знаю, как живы остались. Три года в обнимку со смертью жили. Абдулла, председатель сельсовета, бывало, смеется: «Шибко, шибко храбрый Калина! От храбрости пули отскакивают». А то опять начнет молоть, когда кумыса своего налакается: «Тебя, Дунька, любим». Да мой-от потаскун едва не продал меня этому Абдулле. Да!
– Моя жена не может без концертов.
– Концерты? – Евдокия вскочила, грохнула по столу. – Это я-то говорю концерты? Я-то – концерты? Две старухи, Абдулловы жены, приходили: пойдем к нам третьей женой, красоваться будешь. А сам-то Абдулла как кумыса накачается да котел плова ввалит в себя – барана целого с рисом – и почнет языком прищелкивать: «Ай Дунька! Карош Дунька! Пойдем ко мне в жены». У них ведь запросто: одна жена але десять, лишь бы ты прокормил. А мой – ладно. Моему так и надо: Абдулла девку свою взамен дает…
– Абдулла Казыбеков действительно иногда любил подзадорить жену. Мол, ты за меня пойдешь замуж, а я за твоего мужа дочь отдам. Веселый был человек.
– Очень веселый. И девка у него веселая. Четырнадцать-то лет, не знаю, было, нет, а такая шельма – так и стрижет глазищами, так и стрижет. А мой и рад: всю жизнь штанами тряс, ни одной юбки не пропустил, а тут молодая гадюка из чужих нациев – интересно… Ох, чего было, что пережито, теперь и не вспомнишь. Про одну дорогу, как обратно в Россию попадали, день рассказывать надо. А на Магнитке-то как жили? Его ведь от киргизцев-то куда понесло? На Урал. На Магнитку. «Там самый ударный труд теперь, Дуня». А на Магнитке два года прожили, начали только корешки выпускать – опять в поход. Опять поедем, Дуня. На север, в Карелию. В какой-то газете вычитал – вишь, ничего нет сейчас важнее удобрений, иначе не исть нам досыта хлеба. Ну тут уж я гирями на плечах не висела: в Карелию дак в Карелию, все ближе к дому. Страсть как надоело на чужой стороне. К Вологде-то стали подъезжать, я глаз из окошка не вымаю. Наши, северные дома-то. Люди-то наши, говоря-то наша. И ехать бы, ехать бы нам напрямки, без всякой остановки, сгинуть бы, захорониться до поры до времени в этой самой Карелии – мало там лесов, гор, дак нет, сам, своей охотой полез в капкан…
Михаил знал, о чем сейчас заговорит Евдокия, – о том, как Калина Иванович, узнав в Вологде об аресте своих боевых товарищей, кинулся на их выручку в Архангельск. И все равно к горлу подкатило – дышать нечем.
– Да, смерть по земле ходит, все затаились, запрятались по норам, по щелям – пронеси, господи, мимо меня. А у нас сам на рожон полез: неправильно арестовали. А-а, неправильно? Ну дак получай свое, поучись уму-разуму.
Евдокия заплакала.
Михаил ждал: вот-вот заговорит Калина Иванович. Старик никогда не оставлял без своих объяснений такие речи жены. Но Калина Иванович молчал.
Красный вечерний свет заливал тесную горенку. Красным огнем пылала белая подушка, на которой лежала старая голова с закрытыми глазами, а слова не было. И Михаил впервые вдруг тоскливо подумал: недолго заживется на этом свете Калина Иванович.
3
Они вышли на улицу вдвоем.
– Ну, слышал про житье Евдокии-великомученицы?.. – с деланной улыбкой заговорил Михаил. – Вот сколько она на своем веку хлебнула! Дак ведь это ковш из бочки – то, что она рассказала. Я иной раз скажу: с умом надо было замуж выходить, Дусенька! Вышла бы, к примеру, за такого навозного жука, как я, всю жизнь бы красовалась да во спокое жила. Дак знаешь она что? Как почнет-почнет чесать меня – на себя смотреть тошно. Такой букашкой вдруг сам себе покажешься. А чего? Что бы она без Калины-то Ивановича? Да ей с Калиной-то Ивановичем свет открылся, на какие моря-ветры вынесло…
Михаил ждал: вот-вот заговорит Петр, прояснит, найдет нужные слова тому большому и важному, что смутно и неопределенно бродило, ворочалось в нем в эту минуту, – ученый же человек! Но Петр молчал, и он вдруг заорал как под ножом:
– А ты думаешь, нет, что с домом-то делать? Ждешь, когда Паха за него примется? Ну да… Чего теперь для тебя какой-то там дом из дерева, раз сам Калина Иванович всю жизнь чихал на свой дом. А между протчим, Россия-то из домов состоит… Да, из деревянных, люди которые