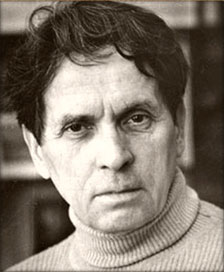она предлагала взять ребенка в детдоме – вспомнил и это: «Давай возьмем для полноты жизни». А может, у нее за эти годы неустойка по женской части вышла, так ведь и это он понимает. Сам не без греха.
Три дня терзал ее своим великодушием Григорий, а на четвертый день уехал в район. Да не один, а с Варварой Иняхиной.
И Анфиса, когда узнала об этом, только что не перекрестилась от радости. Пускай, пускай будут счастливы! Видно, не зря принюхивались друг к другу еще до войны. Судьба… А сколько она слез тогда пролила? И из-за чего? Из-за того, что бабы на каждом перекрестке судачат да языком чешут. Нет, нет, не из-за ревности она слезы проливала. К тому времени у нее и в помине не было любви к Григорию. А из-за гордости, из-за того, что бабы на тебя смотрят с обидной жалостью да подленьким любопытством: «Ну-ко, скажи, скажи нам, за что тебя свой мужик не жалует. Какой такой изъян в тебе есть?»
– Ох, бабы, бабы, – сказала Анфиса вслух, – кто вас разберет…
Эти слова она часто произносила в последнее время, потому что и в самом деле не понимала, почему от нее отвернулись бабы. Из-за Григория? Так вот же он, бедненький, – с молодой женой медовый месяц справляет. А ей чего завидовать? Она покамест на том же вдовьем положении, что и остальные.
Лошадь громко, с выхрапом прочистила заиндевелые ноздри и вдруг без всякого понукания затряслась мелкой рысцой.
Смеркалось. Высоким розовым столбом вздымался дым над районной пекарней.
При въезде в райцентр Анфису обогнал начальник сплавконторы Таборский. Привстал на санях, крикнул в лицо, обдавая винным перегаром:
– Здорово, молодка! Не на свадьбу? Слыхал, слыхал, что мужика замуж выдала. – И захохотал.
И вот, выезжая на главную улицу райцентра, Анфиса больше всего боялась встретиться с Григорием да Варварой.
Она не встретила ни Григория, ни Варвару.
В тот вечер на бюро райкома ее сняли с председателей.
2
Михаила и еще трех лесорубов вызвали на собрание с Ручьев. Лошадь подогнали к делянке, так что они даже в барак не заходили. Прямо от пня да на бал. Весело! В брюхе волки воют, а ты обсуждай колхозные дела.
Да что обсуждать? Картина ясная, не сбрехали люди: новый председатель уже выставлен напоказ, за красным столом по правую руку от Подрезова сидит, а Анфиса Петровна тоже, надо полагать для наглядности, в тень задвинута, так что Михаил не сразу и разглядел ее на сцене.
Подрезов не стал метать громы и молнии – видно, отметал еще у себя на бюро. Сказал просто:
– Мы, райком, долго возились с Мининой. Со всех сторон ее подпирали. Но, как говорится, изба на подпорках не изба. Пора и у вас, в Пекашине, подвести под войной черту.
И вот эти последние слова насчет того, что хватит, дескать, жить войной и по-военному, шибко пришлись по душе людям.
– Но, товарищи, надо бы нашему председателю за войну сказать спасибо… Это Илья Нетесов неуверенно подал голос от печки.
Михаил поморщился, как от зубной боли: ну, будет сейчас мокряди. Бабы откроют свои шлюзы – затопят собрание слезами.
Но, к его немалому удивлению, все молчали. Что такое? Подрезовской команды ждут? Или еще не раскачались?
Лицо у Анфисы сделалось белое-белое. Как снег. Да, это не шутка. Столько лет трубила-трубила, а на поверку оказалось, что у людей и доброго слова для тебя нет.
Кто-то сзади, кажись, Александра-скотница, Трофима Лобанова дочь, зашептала беспокойно:
– Скажи, скажи, Михаил. Разве трудно тебе?
Сказать? А почему и не сказать? Можно сказать. Он сложил руки ковшом, крикнул басовито:
– Голосуй! Все ясно. Сколько еще можно назад оглядываться!
Да, вот так он сказал. Он не Егорша. Это у того слово и камнем летит, и соловьем поет, а тут получилось что надо. И ежели у какой бабы и было еще намерение повздыхать о прошлом, а заодно и Анфису Петровну добрым словом помянуть, то после его выкрика поворот на сто восемьдесят градусов. После его выкрика все потянулись глазами к новому председателю, потому что сообразили: с ним, с новым председателем, жить, из его рук кормиться.
А Михаил встал. Встал во весь рост и пошел на выход. Авось бабы сумеют проголосовать и без него. Зато Анфиса Петровна лишний раз увидит, кто ее срезал. Пускай посмотрит. Он не таится. Квиты! Ты мне насолила, жизнь разломала, и я не остался в долгу. Сполна рассчитался.
3
– Ну, ты выдал! Прямо под дыхало ей… – заговорил Петр Житов, спускаясь с крыльца.
Хлынувшие вслед за ним из клуба бабы едва не сбили его с ног. А когда выбрались на твердую, накатанную дорогу, дали волю своим языкам. Два черных говорливых ручья покатились от клуба.
– Вот оно когда, собранье-то, у них началось, – заметил Петр Житов.
К ним, попыхивая цигарками, подошли еще мужики: Иван Яковлев, Костя-атаман, Василий Иняхин.
Петр Житов в ознаменование наступления мужского царства в Пекашине предложил скинуться по трояку. Все предложение это приняли и без лишних разговоров двинулись к Марине-стрелехе, так сказать, на нейтральную территорию, где будут исключены всякие домашние помехи.
Михаил дошел с мужиками до правления и вдруг раздумал: завтра рано выезжать в Ручьи, а он еще и дома не был. Что там делается? В прошлый раз, как ни упрашивал его Евсей Мошкин, он не мог заставить себя заглянуть домой. Походил-походил вокруг да около и поехал в район: будь что будет, пускай под суд его отдадут, а он должен увидеть Варвару. Своими глазами. Ну а после этой вылазки в район ему и вовсе не до семьи было.
Да и вообще, думал Михаил, подходя к своему дому, можно было бы и сегодня не заходить. Пускай на своей шкуре испытают, что это такое – дрова из-под снега добывать. Полезно! А то, когда за людей всё другие делают, хамеж у них развивается.
Войдя в заулок со стороны задворок (врасплох хотелось нагрянуть), он все-таки заглянул в дровяник.
Дрова есть. Правда, мутовки. И сразу видно, кто добывал. Бабью работу по зарубу узнаешь – кряж со всех сторон изгрызен, будто и не топор в руках был. Может, только одна баба и умеет в Пекашине рубить по-мужицки – Анфиса Петровна…
«А ну ее к дьяволу! – выругался про себя Михаил. – Кой черт на память лезет!»
У крыльца он поскользнулся и едва не упал. Оказывается, у ребят почти впритык к крыльцу сделана ледяная горка.
– Чего смотрите? – заорал он, вламываясь в избу. Это относилось к матери и Лизке. – Те скоро с крыльца ездить будут. Через окошко влезать в дом?
Тут, бешено вращая разъяренными глазами, он увидел на своей койке ребят (сколько раз говорено: не спать на моей койке!) и раскричался еще пуще.
Хлебного в доме не было ни крошки. Михаил помял холодной картошки с капустой (корова не доила, самовар довели: труба протекает) и приказал, чтобы мать сняла с печи все валенки, какие там есть, а сам пошел в сени за ящиком, в котором хранился сапожный инструмент, потому что чертова семейка – ежели не положить как следует, все растащат.
Мать накидала на середку избы целую кучу рвани – из овчин, из старых ватников, из отцовского суконного пиджака, в общем, собака знает, почему вся эта заваль, раскисшая, вонючая, называется валенками.
Он повертел в руках один чувяк, повертел другой и пришел в ужас: ничего не сделать за ночь. Нечего даже и приниматься.
– А эта чего сидит? – заорал Михаил, наткнувшись глазами на Лизку, которая все еще, с той самой поры, как он вошел в избу, сидела на прилавке у печи, облокотившись одной рукой о подпечек. И в пальтухе. – Может, не домой пришла в гости?
– На собрании была, – ответила за Лизку мать.
– На собрании? В клубе? Вот-вот, тебя там только и не хватало. А еще, говорят, обутки нет. С чего же у вас обутка будет, коли вас в каждую дыру тянет! Ну что, – злорадно усмехнулся Михаил, – посмотрела, как на председателей решку наводят? Вот так! Не копай другим яму.
– Это Анфиса-то Петровна яму копала? Кому? Бессовестные! «Анфисьюшка… родимушка ты наша… желанная…» Давно ли еще о празднике причитали, а тут воды в рот набрали… – Лиза всхлипнула.
Мать, вздохнув, сказала:
– Да уж, Анфиса помогала людям. Куска лишнего не съела… Я помню, раз на пожню пришла – как раз мы разобрались с едой. Ну, Грунька и говорит: «Давай-ко, председательша, угости нас своими колобками». А председательша достала колобки – никто и не позарился: тот же мох да древесина.
– То-то и оно, – заговорила опять, давясь слезами, Лизка. – А могла бы и на муке замешать. А тут увидели этого Першина – в рот готовы ему смотреть. А Анфисы Петровны кабыть и нету.
– Першин тут ни при чем, – отрезал Михаил. – А об Мининой райком сказал ясно.
– И никакая она нам не Минина. Кабы не Анфиса Петровна, может, и нас-то сейчас на свете не было. Вот.
– Я говорю, после райкома у нас не принято говорить. Дошло?
– Ну и что, – не унималась Лизка, – то райком, а то люди. Райком сказал, и вы бы сказали. Спасибо, мол, Анфиса Петровна, за труды твои великие, за то, что с тобой все беды да напасти пережили…
Михаил с ехидством улыбнулся:
– Вот ты бы и сказала, раз такая смелая.
– И сказала бы! Да я думала, мужики сидят, с Ручьев нарочно вызваны, скажут, не потеряли еще совсем совести.
– Дура! Люди жить хотят. Мало настрадались? За что тут благодарить? Ни пожрать, ни обуть! – Михаил бросил разъяренный взгляд на кучу валенок. – Ну и ясно – обрадовались: новый председатель будет. Чула, что сказал Подрезов? «Надо, говорит, кончать с бабьим царством. Пора, говорит, и у вас подвести черту под войной». Поняла? – Он зло постучал кулаком по своему лбу. – Черту под войной. Ясно?
– Ну и что, – по-прежнему продолжала твердить свое Лизка, – не отвалился бы язык, ежели бы и сказали.
– Да пойми ты, чертова кукла! – заорал вне себя Михаил. – Надоело людям понимаешь? Сколько она говорила в войну: вот воина кончится – заживем, вот война кончится – заживем. А как зажили? Где эта жизнь распрекрасная? Дак, может, хоть теперь, с новым председателем, получше будет. Понятно тебе, о чем люди думают?
– Ну и что, она не виновата. Не она одна, все так думали…
Михаил трахнул валенком о пол (он таки взялся было за материн чувяк), заорал на всю избу:
– Гасите свет! Что еще за моду взяли – по ночам с огнем сидеть!
Свет погасили.
Мать сразу же убралась на печь, а Лизка, раздевшись, опять присела на прилавок и начала давить ему на психику, по-кошачьи сверля его из темноты своими зелеными глазищами. Потом пустила в ход слезы – это уже лежа на печи. Вот,