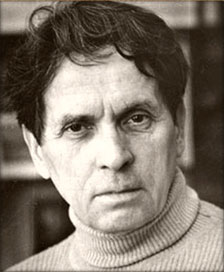с укором посмотрела на него: дескать, о таких вещах можно бы и не говорить. Но Михаила не на шутку заинтересовал этот разговор. В самом деле что из них будет? Ведь вот – малые-малые, а вырастут когда-нибудь. Как они сами-то себе это представляют? Анфиса Петровна все ждала да мечтала, когда пряслинская бригада на пожню пойдет. А ведь настанет время, когда пряслинская бригада немного дальше, чем на пожню, пойдет. В жизнь пойдет.
И он снова стал допытываться у близнецов, кем они хотели бы стать, а когда те опять ответили, что хотят стать такими же, как он, Михаил покачал головой:
– Нет, ребята. Что я? Двадцать лет прожил, а что видел, где бывал? А жизнь, она огромная. И страна у нас огромная. Учиться вам надо. Мне вот не пришлось. И ей не пришлось. – Михаил кивнул на сестру.
Лизка вздохнула:
– До ученья разве мне было? Я, бывало, на уроке сижу, а на уме-то у меня корова. Есть ли трава? Да где ребята?
– Это о вас она, – сказал Михаил. – Так что потом вы жмите. И за меня, и за сестру выучиться надо.
– Татьяна у нас будет ученая, – сказала Лизка. – Вот уж эта выбьется в люди. Москва-девка! Где она теперь, рева?
При этих словах ребята посмотрели на малиновый ельник за Синельгой – в той стороне было Пекашино.
– Что, по дому заскучали? – спросил Михаил и, продолжая разговор, сказал: – Вы, ребята, в другое время растете. Все ладно, вам не придется в четырнадцать лет вставать из-за парты да в лес идти.
– Слушайте, что брат-то говорит, – наставительно сказала Лизка. Наматывайте себе на ус.
– Я вот, к примеру, все думал с коня на трактор пересесть. На тракториста выучиться. А не получилось. Так жизнь сложилась.
– Война Михаила-то съела, – сказала Лизка. – Да мы с вами. Его и в армию из-за нас не взяли. Чтобы мы с голоду не померли. Запомните у меня это. Хорошенько запомните. Потом где ни будете, в какие города ни уедете, чтобы у меня брата не забывать. Поняли?
Ребята, непривычные к столь серьезному разговору, слабо закивали в ответ, а Михаил, глядя на Лизку, подумал: «Эх, сестра, сестра. Да ведь и тебя, если на то пошло, война съела…»
Березы у ручья погасли. От Синельги наползал туман. Ребята, отмахиваясь от комаров, поеживались и нет-нет да и бросали исподтишка взгляд на избу, в которой Лизка устраивала постель.
Наконец Лизка вышла из избы.
– Долго ли вы еще? – Она ступила босой ногой на колючую щетину выкошенной вокруг избы пожни, поморщилась: – Ну и роса здесь. Не то что у нас в деревне. Хороший день завтра будет.
– Хороший, – сказал Михаил. – Ну как, мужики? Будить вас до завтрака?
– Будить, – ответили двойнята (Федька уже был в избе).
– Ладно, посмотрим. А теперь спать.
За избой догорал закат. От варницы к светлому розовому небу голубой лентой тянулся дым. Звонко тренькал колокольчик на пожне, а самого коня не видно молочный туман заливал пожню.
Михаил сидел у костра, попыхивая цигаркой, прислушивался к ребячьим голосам за стеной в избе, а глазом косился на давнишние буквы, вырезанные ножом на столе:
ПИГ
Никто – ни ребята, ни Лизка, ни он сам, – никто не обратил внимания на эти три буквы среди множества других букв, которыми были покрыты плахи стола. А буквы-то были отцовские – Пряслин Иван Гаврилович. Их отец когда-то сидел за этим столом…
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
1
Солнышко только-только начало подыматься за рекой, а Анна уже входила в поля. С котомкой, с туесом, с граблями. И ей радостно было, что она раньше всех встала, раньше всех управилась с печью и коровой и раньше всех выходит на работу. А еще ей радостно была оттого, что скоро она увидит своих детей.
Три дня она жила вдвоем с Танюхой, и ей, привыкшей к вечному ребячьему шуму и гаму, дом свой показался пустым и мертвым.
Первая встреча со своими детьми у нее произошла еще задолго до Синельги, в березовых кустах за Терехиным полем. Тут Анна по старой привычке потянулась за веткой, чтобы лесной дорогой отбиваться от гнуса. И вот только она заломила березку, увидела сомлевшие ветки на вершинке. А немного подальше, на другой обочине дороги, тоже надломленные березовые ветки, только пониже.
И она поняла: ребята ломали. Те, с той березки, которую нагнула сейчас она, ломал Михаил, а за дорогой – двойнята. И она даже представила, как это было.
Бежали, бежали двойнята впереди, выхвалялись перед старшим братом – вот как мы умеем бегать, посмотри, Миша! – да вдруг услыхали, что Миша березовые прутья ломает, и они давай ломать: так, значит, надо. Миша зря ничего не делает. А может, и сам Михаил крикнул: «Ребята, запасайтесь березой. Фашисты в воздухе!» – так, бывало, в войну называли оводов да слепней.
Дальше про то, как шли ее дети суземом, стала рассказывать ей дорога.
Четко, дождем не смыть, впечатал свой сапог Михаил, и шажище – метровка, точь-в-точь как у отца. А двойнята – те как олешки: где оставили следок, а где и нет. Легкие.
Свою ногу Анна старалась ставить в след дочери. Шаг у Лизки не крупный и не мелкий, как раз по ней, а самое главное – шла Лизка с разбором. Не то что Михаил. Михаилу все равно: грязь ли, болото ли – все прямо. Не любит обходы делать. А Лизка – нет. Лизка, если надо, и в сторону свернет, и круг даст только чтобы под ногой сухо было.
На второй версте, на грязях у Лешьей зыбки, Лизкин след внезапно оборвался. Анна глянула в одну сторону, глянула в другую – нет следа.
Она пошла обочиной, по осотистой бровке, рядом с натопами Михаила и двойнят. Но знакомого следа – круглый каблук с большой шляпкой у гвоздя – не оказалось и за грязями. Потом, спустя малое время, – босая нога на дороге, узкая и длинная. Лизкина, догадалась Анна. Это ведь ей сапог новых жалко стало. И вот, когда начались грязи, сняла.
Сапоги для Лизаветы принес Степан Андреянович уже в самую последнюю минуту, когда Михаил с ребятами выезжал из заулка. Лизка была любимицей старика, дочь родную не все так любят, как он любил Лизку. В прошлом году пропадать бы Лизке без валенок в лесу – выручил Степан Андреянович. Разжился где-то шерстью, сам и скатал.
И валенки, и сапоги, понятно, немалое дело по нынешним временам, да ведь и Лизка не в долгу перед Ставровыми. Ну-ко, с сорок второго года обстирывать да обмывать старика с парнем – стоит это чего-нибудь, нет?
Так, мысленно беседуя с детьми, угадывая по следам, как они шли, где останавливались, Анна и не заметила, как вышла к Синельге.
Надо бы передохнуть хоть немного, надо бы лицо сполоснуть: зажарела, запотела – не порожняком шла, но до отдыха ли, до прохлады ли речной, когда где-то совсем близко дети?
И вот он, ее праздник, ее день, вот она, выстраданная радость: пряслинская бригада на пожне! Михаил, Лизавета, Петр, Григорий…
К Михаилу она привыкла – с четырнадцати лет за мужика косит, и равных ему косарей теперь во всем Пекашине нет. И Лизка тоже ведет прокос – позавидуешь. Не в нее, не в мать, а в бабку Матрену, говорят, ухваткой. Но малые-то, малые! Оба с косками, оба бьют косками по траве, у обоих трава ложится под косками… Господи, да разве думала она когда-нибудь, что увидит эдакое чудо!
С самого рожденья не повезло двойнятам. С самого рожденья им пришлось все делить пополам друг с другом: и молоко материнское, и одежду, и обутку, – и в войну, казалось, им первым карачун. А они устояли. Они выжили.
Весело, со свистом летает серебряная коса у Михаила, а у Лизки, по пояс зарывшейся в густую траву, на виду другая коса – девичья, тугим льняным ручьем стекающая по запотелой, в мокрых пятнах спине, и фик-фик – синичками звенят косы двойняток.
И, видно, не одной ей, Анне, было удивительно то, что делалось в этот час на пожне под высокими березами с искрящимися на солнце макушками.
Сверху, над пожней, большими плавными кругами ходил пепельно-серый канюк и не кричал, как всегда, «питьпить», а молчал.
Молчал и смотрел.
Смотрел и дивился.
2
Лизка первая увидела мать, закричала на всю пожню:
Затем, не долго думая, бросила посреди пожни косу, подбежала к матери, помогла снять со спины котомку.
– А вон-то, вон-то! – живо зашептала она, кивая на двойнят. – Мужики-то наши. Давай дак не фасоньте! Видите ведь, кто пришел.
Петька и Гришка выдержали – ни разу не обернулись назад. Дескать, некогда глазеть по сторонам. На работе мы. И только когда старший брат объявил перекур, только тогда дали волю своим чувствам: скоком, наперегонки кинулись к матери:
– Видела, видела.
– Как не видела, – рассмеялась Лизка. – Мы только и смотрели на вас. Ну уж, говорим, и ребята у нас. Поискать таких работников.
– А где у вас малый-то? – спросила, оглядываясь по сторона, Анна. – Почему не видно?
– Удит, – ответила Лизка и указала на дымок за мысом. – С косьбой ничего не получается. Позавчера принимался. Овод да муха, вишь, мешают. Выстал середи пожни, обмахивается веничком. Федюха, Федюха, говорю, ты ведь не в бане. На пожне-то косой от гнуса отмахиваются, а не веником…
Все – и подошедший к этому времени Михаил, и двойнята – рассмеялись: Лизка мастерица была разыгрывать домашние спектакли.
– Малой еще, – вступилась по обыкновению за Федюху Анна. – Подрастет, будет и он косить.
– Ничего не малой, – возразила Лизка. – Больно лени много у этого малого, вот.
– А нас, мама, оводы не кусают. Смотри-ко! – Петька и Гришка были без куклей – накомарников. Сняли, подражая старшему брату, – тот все лето ходил с открытой головой.
А напрасно сняли, подумала Анна. Дорого обошлась им эта лихость. До волдырей, до коросты раскусаны бледные, бескровные лица.
Отдыхать сели на выкошенный угорышек к Синельге. Прямо на солнцепек. Тут по крайней мере не донимает комар.
Туес с молоком Михаил опустил в речку под густую черемшину. Котомку с хлебами повесил на сук березы – чего-чего, а мышей на Синельге хватает.
Анна, отдуваясь от жары (все, кроме Михаила, – и двойнята, и Лизка сгрудились вокруг матери), стала рассказывать деревенские новости.
Новости были разные: в колхозе выдали муки житной по два килограмма на человека, работающего на сенокосе; в Заозерье утонул ребенок – второй день неводом ищут; Звездоня из-за жары доит худо, не удалось скопить сметаны…
– Ну чего еще? – развела руками Анна. – Да, забыла. Анисья у Лобановых уехала с ребятами в город.
– Уехала все-таки? – задумчиво переспросил Михаил.
– Это она из-за паспорта, – сказала Лизка. – Поминала на той неделе: паспорт, говорит, кончается, не знаю, как быть.
– Анисья не от хорошей жизни уехала, – сказал Михаил. – Попробуй-ка