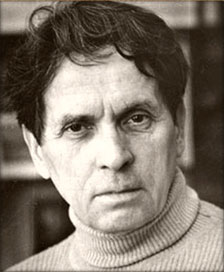заказана. Заходил Сергей Петрович, хорошо говорил о тебе…
А Алюшка на это ответила: «Плевать я хотела на твоего Сергея Петровича!» Да еще добавила: «Хватит с меня и того, что ты всю жизнь на Петра Ивановича молишься…»
После этого Пелагея долго не могла успокоиться. Да что же это такое? – говорила она себе. Как жить дальше?
Ведь что бы она ни сделала, все невпопад, все мимо…
Но не Алькино письмо сокрушило Пелагею. Сокрушила Пелагею пекарня.
* * *
Ее давно тянуло на пекарню. Считай, еще с осени, с той самой поры, как заболела.
Думала: стоит только увидеть ей свою пекарню да подышать хлебным духом – и сразу хворь пройдет, сразу прорежется дыханье, И вообще она в жизни ни о чем и ни о ком так не тосковала, как о пекарне. Даже об Альке, родной дочери.
Первый раз за реку Пелагея отправилась было еще в феврале, когда впервые после долгой метели заледенелые окошки вызолотило красное солнышко. Но дальше спуска возле сельсовета не ушла. Из-за стужи. Из-за снежных заносов. Страхи страшные, что намело. У сельсовета, под угором, на чистом месте лошади по брюхо ныряют – так что же говорить о ней, хворой бабе?
И вот дождалась она первой затайки.
Утром встала ни свет ни заря. Чистая, благостная – вечером накануне специально сходила в баню, будто к богомолью готовилась. Из дому вышла с батожком – тоже как богомолка. И люди попадались ей навстречу какие-то благостные, просветленные.
Антоха-конюх догнал на санях перед самым спуском к реке – когда бы раньше остановился? А тут натянул вожжи:
– Ты ли это, Прокопьевна? – Да мало того, соскочил с саней, руки к ней протянул: – Нутко, поедем вместе. Скользко спускаться. – И так по-хорошему улыбнулся.
Пелагею до слез прошибла Антохина доброта. Она поблагодарила его, но на сани не села.
Всю дорогу какая-то незнакомая, но такая славная музыка нарастала в ее душе – так разве оборвет она ее сама?
И она легким осиновым батожком, который специально раздобыла где-то Маня-большая, щупала отмякшую дорогу, ловила губами теплый южный ветер, порывами налетавший из-за реки, и все ковыляла и ковыляла помаленьку туда, к желтому бревенчатому зданию на угоре среди сосен…
Зато уж домой она шла как пьяная, вся в слезах, не помня себя… И хорошо, на реке ей опять повстречалась подвода – на этот раз бригадир из соседней деревни ехал, – а то бы пропадать ей, ни за что бы не добраться до дому….
Огорчения для Пелагеи начались, едва она подошла к пекарне. Помойка. Возле самого крыльца. Две вороны роются…
– Да куда это власти-то смотрят? – возмутилась она. Почему медицина-то спит? Нет, бывало, особенно в голодные годы, каждую неделю к ней фельдшер наведывался. Или сейчас и фельдшера перестали ходить на пекарню, раз сыты?
Она поднялась на крыльцо, открыла наружную дверь – и того чище: поросенок. Бросился ей под ноги с визгом, будто спасаясь от ножа.
– Да как же так? – опять с недоумением спросила себя Пелагея. Она, бывало, руки выворачивала, таская домой помои, да с опаской, а тут прямо на виду у всех кормят поросенка. И опять она подивилась недосмотру санинспекции. Навоз, грязь, вонь от поросенка – да как его можно терпеть рядом с хлебом?
Но это еще все были цветочки, а ягодки-то пошли, когда она переступила порог пекарни. Господи! Куда она попала? В сарай грязный? В старую башню из-под силоса? В хлев? Все немыто, засалено, в окошке веник торчит – вот отчего весны на пекарне нету.
Но больше всего Пелагею поразило помело.
Бывало, чтобы хлеб духовитее был, чего только она не делала! Воду брала на пробу из разных колодцев, дрова смоляные, избави боже – сажа; муку, само собой, требовала первый сорт, а насчет помела и говорить нечего. Все перепробовала: и сосну, и елку, и вереск. А тут вместо помела рогожина. Черная, обгорелая рогожина, намотанная на длинную палку и погруженная в грязное ведро с водой…
Улька-пекариха стала угощать Пелагею чаем – только что сама села за стол, управившись с печью, а Пелагею едва не стошнило от одного Улькиного вида. Потная, жирная, волосы немытые блестят, будто она век в бане не бывала.
И Пелагея, так и не присев, вышла. А на нечищеный самовар и рукомойник, на печь грязную, ни разу не беленную после ее ухода, она не посмела бросить даже прощальный взгляд. Потому что все ей казалось, что и самовар, и рукомойник, и печь с тоской и укором смотрят на нее…
За окном кипела весна.
Всю зиму смотрела Пелагея на мир через копеечный глазок, продутый в обледенелой раме, а теперь половодье света заливало избу. Жить бы, шагать по оттаявшей земле босыми ногами да всей грудью вдыхать теплый ветер из заречья. А она лежала, и дыхание у нее было тяжелое, взахлеб, с присвистом. Точь-в-точь как у старых дырявых мехов в кузнице.
В доме, как в дни болезни Павла, хозяйничала Анисья.
Пришла сама.
Но Пелагея не разговаривала с золовкой и не скрывала, что не любит ее. А за что же ее любить, когда она со всей семьи здоровье собрала? Умер молодым Павел, она, Пелагея, может, при смерти лежит, а этой ничего не деется – все рожа заревом. Нет, если бы Маня-большая была немного почище на руку, она бы и дня не терпела возле себя этой здоровенной бабищи. Да что поделаешь – Маня стала прицеливаться к хозяйкиному добру, когда хозяйка еще на ногах стояла.
Однажды поздно вечером – уже белые ночи на землю пали – к ней зашел Петр Иванович.
Сколько времени прошло с похорон Павла, с того дня, как они последний раз виделись? Года не будет. А Петра Ивановича так укатало, что она едва и признала его.
Осел, лицо запаршивело (кто видал его небритым?), в глазах – глянул – тоска волчиная. Но и это еще не все.
Петр Иванович был под хмельком – вот что особенно удивило Пелагею. Слыхано ли, видано ли было такое раньше?
Тем-то и силен был Петр Иванович, что власти над собой кину не давал. Выпивать, конечно, выпивал, без этого нельзя, раз всю жизнь с начальством, но не качнется – столб железный. А тут от порога шагнул, так и обнесло – кулем шмякнулся на прилавок к печи.
– Зашел проведать. Болеешь, говорят.
– Болею, – ответила Пелагея.
Она попыталась встать: гость пришел, и гость немалый, – но Петр Иванович замахал рукои: лежи, не надо.
Первым словам Петра Ивановича она не придала значения. Петр Иванович, как всегда, заговорил петляво, издалека: о колхозных делах, о том, что в колхозе сейчас жить можно, очень даже неплохо зарабатывает народишко. К примеру, Оська-пастух. Кто когда за человека считал? А ведь о прошлом годе за один сентябрь месяц двести с лишним рублей огреб.
– Да, так вот ноне, – вздохнул Петр Иванович. – А мы с тобой вроде и неглупые люди, а держали когда такие деньги в руках?
Пелагея кивала в ответ головой: все так, все это она и сама не раз передумала за время болезни – большие перемены в жизни – и нетерпеливо ждала, когда же Петр Иванович заговорит о деле. Ведь не за тем же пришел, чтобы обсудить с ней колхозные дела?
– Не вовремя мы с тобой родились, вот что, – продолжал Петр Иванович. Поторопились малость. Вот Алька твоя, та в пору… Письма-то ходят?
У Пелагеи часто-часто забилось сердце: куда это он клонит? Не с Алькой ли что стряслось? Но ответила спокойно, не выдавая своего волнения.
– Ходят, – сказала она.
– А домой-то не собирается? Не нажилась еще в городе? Не знаю, я дак не уважаю городскую жизнь. Угоришь там от этого чада да шума…
– Да ведь угоришь не угоришь, – опять спокойно ответила Пелагея, – а надо жить. Не одна теперь, о двух головах.
Петр Иванович похрустел пальцами – знакомая привычка: всегда так, когда на что-нибудь решается, и вдруг хватил ее дубиной по голове:
– Имею сведенье: не живет она с этим военным… Одна живет…
По правде говоря, для Пелагеи это не было полной неожиданностью. Где-то в душе она и сама догадывалась, что у Альки по семейной части не все ладно. Но одно дело ее собственные догадки и другое – когда дочь твою валяют в грязи чужие люди. И она, несмотря на всю свою слабость, как зверь, кинулась на защиту родного детища.
– А хоть бы и одна, дак что! – с вызовом сказала Пелагея. – Моя дочь не пропадет. Ина березка и с ободранной корой красавица, а ина и во девичестве сухая жердина…
Намек был страшный – самый тупой человек догадался бы, что она хочет сказать. И она вся внутренне похолодела, даже дышать перестала: лежала и ждала, с какой стороны еще раз оглушит ее Петр Иванович.
А Петр Иванович молчал. Долго молчал. Потом Пелагея приподняла голову и совсем растерялась: у Петра Ивановича в глазу блестела слеза.
Заговорил он тоже необычно: Паладьей ее назвал. По-домашнему, по-деревенски, так, как звал ее когда-то покойный отец.
– Паладья, – сказал каким-то глухим, не своим голосом Петр Иванович. Я тебя выручал? Не забыла еще?
– Выручал, Петр Иванович… как забыть…
– Ну, а теперь ты меня выручи… Помоги… Ради бога, помоги…
Пелагея едва не задохнулась от удивления. Она еще из знала, о чем ее просят. Но кто просит? Петр Иванович… Ее, Пелагею…
– Парень у меня погибает… – через силу выдавил из себя Петр Иванович.
– Сережа? Да с чего ему погибать-то? С высоким образованием, в почете…
Петр Иванович безнадежно махнул рукой:
– Змий этот зеленый сосет, вот что… – Потом вдруг шагнул к кровати, дрожащей рукой схватил ее за руку. – Ты бы написала Альке… Чего ей там на чужой шататься стороне… Может, и получилось бы дело…
Так вот оно что, поняла наконец все Пелагея, Алькой спастись хочет… Чтобы Алька взяла в руки Сережу… Вот зачем пришел…
Темное, мстительное чувство захлестнуло ее. Она искоса глядела на небритый, вздрагивающий подбородок с ямочкой посредине, на жалкие стариковские глаза, размягченные родительской слезой, и только теперь, только сию минуту поняла, как она ненавидит этого человека. Ненавидит давно, с того самого