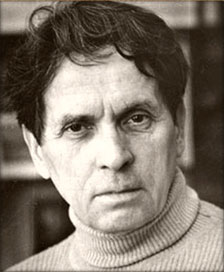пугать. Давай лучше еще по кружечке чайку дернем – и спать, раз уж мы здесь застряли.
3
Утром встали на рассвете.
Туман. Костерик чадит еле-еле. Лошадиные морды устало смотрят на них из тумана – должно быть, и в самом деле где-то поблизости разгуливал ночью медведь.
Сходили на речку, сполоснули лицо, навесили чайник.
Все время молчавший Подрезов заговорил после выпитой кружки чая:
– Есть предложенье заняться делом, а свиданье с рыбой отложить до следующего раза. Не возражаешь?
– Нет, – сказал Лукашин.
– Тогда я поеду в леспромхоз. Этому молокососу пора дать по рукам.
– Кому? Зарудному?
Подрезов вместо ответа спросил:
– А ты что намерен делать?
– Мне на Синельгу надо. К сеноставам.
– Добре. – Подрезов помолчал немного, посмотрел на Сотюгу, где в белесой толще тумана всходило багряное солнце. – А на то, что говорили ночью, наплевать. Понятно? А то с этой мутью в голове далеко не уедешь…
Тут он первый раз за утро взглянул прямо в глаза Лукашину. Потом покусал-покусал губы и начал топтать мокрыми сапогами костерик, который и без того дышал на ладан. Мало этого. Будь его воля, он наверняка бы и ели, и березовый сушняк, свидетелей ихнего ночного разговора, растоптал. Во всяком случае, так подумалось Лукашину, когда он увидел, как Подрезов, тяжело, со свистом дыша, своим разгневанным оком водит по сторонам.
Он уехал не попрощавшись. В утренней росяной тиши гулко рассыпалась дробь лошадиных копыт, а Лукашин, опустив голову, еще долго смотрел на чадившие у его ног головешки – остатки ночного костра.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
1
Тузик извел его за эти дни – с раннего утра до позднего вечера надрывается в кустарнике, в озеринах.
Поначалу Михаила это забавляло и даже радовало: хорошая собака будет, а он, Михаил, с детства мечтал об охоте…
Однако вскоре это безмерное усердие щенка встало ему поперек горла. Никакой работы! Только сядешь на жатку, только приладишься, лошадей направишь – слезай. Тузик залаял. И бесполезно звать, подавать свист: до тех пор будет глотку драть – все равно на кого: на ворону, на корову, случайно забредшую на Копанец, на лося, вышедшего на водопой, – пока хозяин не подойдет.
Вот и сегодня раз пять Михаил шлепал к дуралею, делал внушения – не помогло: опять принялся за свое.
– Тузко, Тузко ко мне!
Лай в ольшанике, там, где были остатки старых переходов за канаву, не смолк. Наоборот, он разгорелся еще пуще.
Михаил, зверея, соскочил с жатки, на ходу выломал здоровенную черемуховую вицу – ну, задам я тебе сейчас, гаденыш! А когда подошел совсем близко, вдруг почувствовал себя охотником. Пригнулся, ногу на носок, а потом и того больше: затаил дыхание, осторожно раздвинул кусты, скользнул прищуренным глазом по прыгающему внизу черно-белому клоку шерсти, зыркнул туда-сюда и едва не расхохотался: Райка.
Стоит на той стороне у переходов, смотрит как завороженная на скачущую у своих ног собачонку и ни с места.
– Рай, какими судьбами? А ну, брысь ты, окаянный! Перейдешь сама?
Раечка в один миг перемахнула к нему, вспыхнуло на солнце красное, в белую полоску платье. И духами вокруг запахло. Это уж завсегда. Бывало, зимой встретишь – вкусно, будто первым июльским сенцом тебя опахнет.
Михаил заглянул в берестяную коробку на ее полной загорелой руке – ни одного гриба, посмотрел на босые ноги – так не приходят на поле снопы вязать.
Раечка сама объяснила причину своего внезапного появления в его лесном царстве:
– Пестроху ищу… Где-то корова у нас запропала…
– А-а, то-то же! – улыбнулся Михаил. – А я уж было подумал, не рыжики ли солить пришла? – На местном языке это означало целоваться.
Он был доволен собой: ловко сострил.
– Ну что – в гости ко мне пойдем, так?
Тузик первый построчил к шалашу, а Михаил за ним. И вот пока одолел пеструю, в белой ромашке полянку, спустил с себя семь потов. И не от жары, нет. А оттого, что какая-то муха укусила его – начал для Раечки торить дорогу. Шел и старательно уминал своими тяжелыми кирзовыми сапогами траву на тропинке, как будто и в самом деле не деревенская девка к нему в гости идет, а какое-то неземное, сказочное диво.
Чайник с водой стоял у него в холодке за шалашом, под ватником, и он осушил его наполовину – до того у него вдруг пересохло в горле.
– Не хошь? – предложил своей гостье.
Раечка покачала головой.
– Верно. Вода не вино – много не напьешь… А Пестроха-то у вас когда потерялась? Такая смирная корова…
– Вчерась…
– Ищет…
– А у пастухов-то спрашивали?
– Спрашивали…
– И поля перед Копанцем обшарили? Там коровы любят шлендрать…
Тьфу! – вдруг выругался про себя Михаил. Он старается, старается, с той стороны зайдет, с другой, а она все «да» да «нет». Уж ежели не о чем говорить, то хотя бы рассказала, что в деревне делается. Он два дня не выезжал с Копанца.
Нащупав рукой пачку «Звездочки» в кармане, он вытащил папиросу, сел в тень возле шалаша, стал разминать ее пальцами.
– Садись. Я еще не медведь – не ем заживо.
Раечка не села – только с ноги на ногу переступила.
Он скошенным взглядом обежал ее полные красивые ноги с налипшими мокрыми травинками, воровато, ящерицей юркнул под подол.
Захмелевшее воображение живо дорисовало то, что скрывал от глаза ярко-красный ситец, но он владел собою. До тех пор владел, покуда не напоролся взглядом на крутые, торчмя торчавшие груди. А тут обвал произошел, все запруды и плотины лопнули в нем, и он с быстротой зверя вскочил на ноги.
Раечка не сопротивлялась, и даже когда он опрокинул ее на землю, не стала отпихивать его – только отворачивала от него лицо, как будто и в самом деле что-то решал сейчас поцелуй.
Он выпустил ее из рук – какого дьявола обнимать мертвую колоду! И к тому же запрыгал и забесился Тузик – нашел время свое усердие хозяину выказывать.
– Вставай! – зло прохрипел Михаил. – Я еще в жизни никого нахрапом не брал.
Раечка встала, пошла, как большая побитая собака. Даже не отряхнулась и ворот платья не застегнула.
– Коробку-то забыла!
Раечка обернулась, слезы светлыми ручьями катились по ее побледневшим щекам – только этого и не хватало, – потом вдруг схватилась руками за голову и побежала. По той самой тропинке, которую он еще каких-нибудь полчаса назад старательно мял для нее.
Тузик с лаем бросился за ней.
– Тузко, Тузко, не смей!
Тузик нехотя повернул назад, а он смотрел-смотрел на большое мотающееся тело на тропинке, на алую ленту в темно-русых волосах и вдруг все понял: да ведь это для него, болвана, надела она и праздничное красивое платье и вплела алую ленту в волосы – кто же в таком наряде ищет корову в лесу!
– Рай, Рай, постой!
Он догнал ее уже у переходов, крепко обнял и тотчас же почувствовал увесистую пощечину.
– Рай, Рай…
А может, и в самом деле это его рай? – пришло ему в голову. Чем худа девка!
– Рай, Рай… – Он с радостью, с каким-то неведомым раньше наслаждением называл ее так. – Потерпи немножко. Вот развяжемся малость с полями, и я к тебе по всем правилам… Со сватами… Хочешь?
2
– Но, но! Давай, давай! Пошевеливайся!
Ликующий голос Михаила звучно, как весенний гром, раскатывался по вечернему лесу. Лошади бежали – цок-цок-цок: умята, утоптана высохшая дорога не то что три дня назад, когда он нырял со своей жаткой в каждой рытвине. А ему все казалось – тихо, и он, привстав на ноги, постоянно крутил над головой сложенными петлей вожжами.
Тузик строчил рядом с жаткой, задрав хвост. Рад, дурак. А чего ему-то радоваться? Не все ли равно, где глотку драть. На Копанце даже лучше. Дома заулок, от передних воротец до задних – и все твое царство, а на Копанце просторы – ай-ай! И дичь – не старуха, проковылявшая мимо дома по дороге, а в перьях, в меху. Да, есть уже у Тузика одна белка на счету: облаял давеча днем, когда та вышла на водопой к Копанцу.
Нет, уж если кому радоваться, то радоваться ему, Михаилу. Во-первых, отмытарил на Копанце – это всегда праздник, а во-вторых, даешь новую жизнь! Хватит, поколобродил он за свои двадцать два года. Пора и на прикол вставать. А чего ждать? Кого еще искать?
Его любили и бабы, и девки, и он из себя монаха не строил. Но такого еще у него не было – чтобы вот так, среди бела дня, пришла к нему девка. Сама! Да еще девка-то какая!
Лошади бежали – тра-та-та, сыроег, маслят возле дороги навалом. Гнездами, ручьями красными и желтыми разбежались. Вот когда пошли по-настоящему – когда землю солнышком прогрело. А по угорам меж осин бабы красные шали развесили: брусника крупная, сочная, с ребячий кулак кисти.
Да, в этом году он пойдет за красными
с Раечкой. Да и вообще – зачем было отпускать ее вчера? Какого лешего в прятки играть, раз все решено! Вот бы и не выл он сегодня всю ночь напролет. А то ведь до самого рассвета не смыкал глаз. Лежал в шалаше и перемигивался со звездами…
Мимо, мимо летят телеграфные столбы, сверкают на солнце зеленые и белые чашечки изоляторов… Эх, и побито же было этого добра в свое время, когда он с мальчишками пас коров! Самое это любимое занятие у них было – сбить камнем чашечку с телеграфного столба…
А вот и столица нашей родины, как любил, бывало, говорить Егорша, когда они подъезжали к Пекашину, – красный глиняный косик в году, а на горе знакомый аккуратненький домик…
Лошади выбежали к искрящейся на вечернем солнце Синельге, жадно потянулись к воде.
Михаил спрыгнул с железного сиденья, пошел, буравя ногами светлый ручеек, спускать у лошадей чересседельник и вдруг словно споткнулся: дым. Дым над крышей Варвариного дома…
Нет, дым был у Лобановых. От бани, которая стоит на задворках, в покати.
Но что перечувствовал, что пережил он, пока рассеялся его обман!
Все вспомнил. Вспомнил, как белыми ночами ездил к Варваре с Синельги, вспомнил, как под прикрытием ночного тумана крался к ее дому, карабкался по углу на поветь-сеновал, жадно иссохшими губами припадал к ее сочному податливому рту…
И еще бог знает почему вспомнил, как провожал вчера на Копанце Раечку. Перевел по переходам за канаву, подмигнул как-то по-дурацки, по-Егоршиному, и помахал рукой. Ну разве так бы он прощался с Варварой!
Михаил поехал не по деревне – болотницей: хуже всякой пытки проезжать сейчас мимо Варвариного дома.
3
… Что такое? С задворок, от воротец вся семья бежит к нему навстречу: матерь, Лизка, Татьяна… Однако Федюхи не видно. Может, с ним, с бандитом, какая беда стряслась?
– Ну, слава богу, дождались, – запричитала мать. – А малого-то не видел?
Михаил терпеть не мог паники. Он завернул лошадей на лужайке возле воротец – тут всегда стоят у него в страду косилка и жатка, когда он дома, – слез с