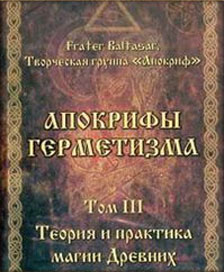время Страшного суда. Все те, кто не последовал за Христом, должны быть брошены в «геену огненную», или, как сказано в Евангелии от Матфея в притче о пире, «во тьму внешнюю». Но со временем перед христианами, продолжавшими существовать все в той же земной, трудной, исполненной несчастьями жизни, встал вопрос об этих несчастьях как наказании божием, причины которого еще со времени древних восточных произведений о «невинных страдальцах» (наиболее яркий пример дан в ветхозаветной Книге Иова) были непонятны людям. Бог, насылающий несчастья, невольно приобретал черты грозной и непонятной силы, жестоко карающей за малейший проступок (гибелью за разбрызганную воду — в Евангелии детства). Естественно, что карающее божество должно было наказывать всех, кто не признавал его, — и христиане, невзирая на проповеди милосердия, надеялись, что их гонители и преследователи погибнут так же, как и те, кто осмелился обидеть мальчика Иисуса. Тема наказания стала явственно проявляться в христианской литературе II-IV вв.: в Апокалипсисе Петра, созданном, по-видимому, во II в., наряду с описанием рая дается подробное описание ада с перечнем всех проступков и грехов, за которые полагались наказания 5, а в более позднем Евангелии Никодима к совершенно фантастическому описанию суда над Иисусом присоединено никак не связанное с первой частью сказание о сошествии Христа в ад.
Менее определенно, но все же ощутимо присутствует в Евангелии детства тема «заступничества», которая также отражала умонастроения христиан того времени, когда шел процесс распространения новой религии вширь.
Среди христиан, принявших крещение к середине II в., были люди разного социального статуса, разных занятий, разных нравственных возможностей. Уже в посланиях Павла речь идет о конфликтах внутри христиан, о нарушениях норм христианской этики 6; среди христиан появлялись люди, состоявшие на государственной службе, выполнявшие предписания, которые не всегда сочетались с их религиозными убеждениями 7, но наряду с людьми, отрекавшимися от христианства во время преследований, были и люди, готовые претерпеть любые мучения за веру 8. В такой ситуации среди рядовых христиан, которые, с одной стороны, видели недостатки и немочи друг друга, а с другой — принимали свои несчастья за божью кару, начинает возникать надежда на «заступников», посредников между ними и карающим божеством (этот психологический фактор способствовал, в частности, и выделению клириков как людей, выступавших такими «посредниками»). В Евангелии детства тема прощения «ради праведников» проявляется в нескольких эпизодах: Иисус обещает молчать, т. е. сдерживать свой гнев, ради просьб Иосифа, хотя Иосиф и не понимает истинного смысла его деяний. Затем, после того, как учитель Закхей был потрясен его мудростью и признал его «Богом или ангелом», Иисус помиловал тех, кого он наказал. Правда, это помилование было сделано не только ради учителя, но и для того, чтобы наказанные и прощенные уверовали в него. И еще в одном эпизоде с учителем (возможно, эти эпизоды дублированы при переписке и редактировании; первоначально существовало только два учителя: один, ударивший Иисуса, и другой, признавший его) Иисус прямо говорит: «…раз ты говорил и свидетельствовал истинно, ради тебя тот, кто был поражен, исцелится». Здесь четко сформулирована мысль о том, что Иисус простил согрешивших против него ради уверовавшего в него и свидетельствовавшего о нем, т. е. не их раскаяние (впрочем, смертное наказание не дало им возможности раскаяться), а поверивший в него и постигший его сущность выступает их спасителем. Надежда на заступников как бы компенсировала страх перед грозным божеством, в которое все больше и больше превращался Иисус в фантастических представлениях его последователей.
Образ Иисуса в Евангелии детства отличен от образа его в новозаветных и, насколько можно судить по фрагментам, в иудео-христианских евангелиях. Это отличие можно проследить в описании почти всех эпизодов евангелия. В канонических текстах — тех немногих, где упоминается о детстве и отрочестве Иисуса, говорится о том, что он «возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости»; «Иисус же преуспевал в премудрости…» (Лк. 2.40, 52). Для автора истории Фомы о детстве Иисуса он не «исполняется» премудрости и не преуспевает в ней, он обладает ею. Даже Иисус-учитель в апокрифе существенно отличается от Иисуса-учителя Нового завета. В Евангелии от Луки есть эпизод, когда Иисус в синагоге в Назарете «встал читать»; ему подали Библию, он, открыв ее, нашел нужное ему место и, прочтя, сел и начал проповедовать (4.16-20). Такова была обычная ситуация в синагогах. Маленький же Иисус из апокрифа тоже берет книгу в школе, но не читает ее, а сразу начинает говорить по вдохновению свыше. Человеческие черты полностью исчезают в образе Иисуса, историческая реальность заменяется псевдореальностью, созданной автором. В этом эпизоде, возможно, скрыта полемика с новозаветными (и, вероятно, другими ранними) евангелиями, стремление ввести аналогичные эпизоды, но в иной трактовке. Та же полнота истинного знания, данного Иисусу от начала, проявляется и в эпизодах с учителями, когда Иисус требует от них объяснения скрытого смысла букв (по словам Иринея, маркосиане занимались толкованием мистического значения букв и цифр). Правда, приведенное в евангелии объяснение линий альфы (скорее описание их) не вполне ясно, если только за этим описанием не стояло известной читателям символики, связанной с идеей разъединения и соединения, столь важной для гностиков. Иисус в данном эпизоде не только обладает школьной премудростью, он обладает скрытым от простых смертных знанием.
Для раскрытия этой идеи автор Евангелия детства использует эпизод из Евангелия от Луки о пребывании двенадцатилетнего Иисуса в храме. Согласно каноническому евангелию, Иисус отправился с родителями в Иерусалим на праздник, по окончании праздника родители отправились домой, Иисус же остался в Иерусалиме; родители нашли его в храме, где он сидел среди учителей, слушал их и спрашивал их; «все слушавшие Его дивились разуму и ответам Его» (2.42-47). В рассказе об этом событии в Евангелии детства использованы дословно отдельные фразы из текста Луки, однако автор апокрифа приукрасил сказание, переданное в Новом завете, введя и видоизменив некоторые детали. В Евангелии детства Иисус заставляет замолкнуть старейшин и поучает собравшихся в храме «учителей народа и старейшин», разъясняя им смысл Закона и пророков. Слушающие его книжники и фарисеи не просто дивятся его разуму, а говорят пришедшей за Иисусом матери: «Такой славы, такой доблести и мудрости мы никогда не видели и никогда о ней не слышали». Таким образом, здесь подчеркивается исключительность Иисуса, поучающего (а не беседующего) и сразу же вызывающего преклонение слушателей, как и в эпизоде в школе, когда все слышавшие его проповедь дивились его благодати и мудрости. Автора не интересует вопрос о том, почему в дальнейшем фарисеи и книжники не признавали учения Иисуса, выступали против него (эти выступления описываются и в канонических, и в некоторых апокрифических евангелиях). Его Иисус — божество, и в качестве учителя он не может не убедить каждого, кто слышит его.
Эпизод в храме, завершающий Евангелие детства, как бы связывает его с новозаветными рассказами; включение фраз из Евангелия от Луки было, вероятно, специальным стилистическим приемом, показывающим, что повествование о детстве Иисуса непосредственно примыкает к почитаемым большинством христиан рассказам о жизни и проповеди взрослого Иисуса. Но связь эта была чисто внешняя, ибо Иисус из Евангелия детства не мог стать тем Иисусом, образ которого создали первые проповедники, собиравшие вокруг себя нищих, калек, сирот, вдов — всех тех, кто не мог найти себе места в имперском обществе начала нашей эры. Акты жестокости, своеволия, свершенные мальчиком Иисусом, не могли быть совершены тем пророком, который затем провозгласил: «…Иго Мое — благо, и бремя Мое легко» (Мф. 11.30), а также, согласно иудео-христианским евангелиям, сказал своим ученикам «И никогда не будьте радостны, только когда возлюбите своего брата».
Для первых христиан чудеса, о которых им рассказывали проповедники, были прежде всего чудесами исцеления, ибо их мессия выступал как спаситель, целитель души и тела. В канонических евангелиях тоже описываются символические чудеса, подобные насыщению тысяч человек несколькими хлебами, претворению воды в вино и т. п., но основные деяния Иисуса — «изгнание бесов» и исцеление больных. Именно так воспринимался он первыми христианами (как сказано в «Деяниях апостолов»: «И он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых диаволом». — 10.38). И тем же даром, согласно христианским преданиям, он- наделил своих учеников. Чудеса исцеления и воскрешения в Евангелии детства призваны показать могущество Иисуса; характерно, что ни одно из подобных чудес не совершается по просьбе страждущего (ср.: Мк. 5.22, 33-34): он сам выбирает тех, кому оказывает милость.
При описании воскрешения употреблены выражения, встречающиеся в аналогичных эпизодах канонических текстов. Свидетели чудес говорят: «…он спас много душ от смерти и будет спасать их всю свою жизнь». Однако, включая словоупотребление новозаветных текстов в свой рассказ, автор Евангелия детства меняет его там, где оно расходится с его теологической концепцией. Так, в Евангелии от Луки присутствовавшие при воскрешении юноши восклицают: «…великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ Свой» (7.16); в апокрифе свидетели чудес называют Иисуса Богом или ангелом, но не пророком. В новозаветных текстах отразилась древнейшая христианская традиция об Иисусе-пророке, которая прослеживалась в иудео-христианских писаниях. Но ко времени создания Евангелия детства образ Иисуса для христиан из язычников все больше и больше терял человеческие черты, поэтому слово «пророк» уже не выражало их восприятия Христа, не говоря уже о том, что для грекоязычных читателей, далеких от иудаизма, понятие пророка было лишено того религиозного смысла, какой оно имело для первых христиан, вышедших из иудейской среды.
Автор Евангелия детства, таким образом, не вступая в открытую полемику с почитаемыми многими христианами II в. новозаветными текстами и даже подчеркивая связь с ними, в то же время проводит иную теологическую концепцию, восходящую к гностическим идеям. Образ Иисуса, нарисованный в апокрифе, не мог не повлиять на восприятие читателями всей последующей жизни Иисуса вплоть до мученической смерти, создавая представления, близкие к представлениям докетов (чародей, который карал смертью за причиненную ему обиду, не мог испытывать настоящие муки).
Гностическое влияние сказалось и в отдельных словоупотреблениях: наряду с оборотами, прямо заимствованными из евангелий Нового завета, автор использует и терминологию, встречающуюся в сочинениях гностиков («сила», «избранный», «стойхейон» — слово, означающее «буква» и «начало», и др.). Однако
Евангелие детства меньше всего было произведением философским; оно представляло собой занимательное чтение для людей, до которых не доходили сложные философские построения, которые не вполне ясно представляли сущность теологических разногласий между сторонниками ортодоксального направления и гностиками, которые ощущали потребность в сказке, отражающей их представления о могучем, всесильном божестве. В произведениях, подобных Евангелию детства, происходила вульгаризация гностицизма, который, невзирая на полемику с ним руководителей большинства христианских общин, проникал в массы, переосмыслялся и в свою