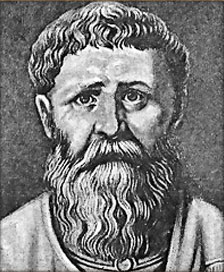деревьями, жизнь чувственную – общую с животными, жизнь интеллектуальную – общую с одними ангелами; от Которого всякий образ, всякий вид, всякий порядок; от Которого мера, число и вес; от Которого все, что происходит естественным образом, какого бы рода и какого значения оно ни было; от Которого происходят элементы форм, формы элементов, движение элементов и форм; давший и плоти начало, красоту, доброе состояние здоровья, соразмерное расположение членов, надлежащую гармонию; давший и неразумной душе память, чувства, способность желать, а разумной, сверх того, ум, понимание, волю; не оставивший не только неба и земли, не только ангела и человека, но и внутренностей самого малого и самого презренного одушевленного, и перышка птицы, и цветка травы, и листка дерева без того, чтобы не дать им известной соразмерности в их частях и в своем роде взаимного мира, – никоим образом нельзя подумать, чтобы Бог судил оставить вне законов и провидения Своего царства человеческие и их положения, господственные и подчиненные.
Глава XII
Какими нравами древние римляне заслужили, что истинный Бог возвысил их государство, хотя они и не чтили Его
Теперь посмотрим, за какие нравы римлян и ради чего истинный Бог, во власти Которого находятся все земные царства, соизволил содействовать распространению их власти. Чтобы можно было говорить об этом решительнее, мы написали и предшествующую, относящуюся к этому же предмету книгу, показывая, что в данном случае не имеют никакой власти те боги, которых они сочли нужным почитать бессмысленными обрядами; написали и предыдущие главы настоящей книги до данного места, чтобы устранить вопрос о судьбе, – чтобы кто-нибудь, убедившись уже, что Римская империя распространялась и сохранялась не вследствие почитания тех богов, не приписал этого какой-то судьбе вместо могущественнейшей воли верховного Бога. Да, древние и первобытные римляне, хотя они, подобно другим народам, за исключением еврейского, чтили богов ложных и приносили жертвы не Богу, а демонам, тем не менее, как свидетельствует и доказывает их история, «из желания доброго о себе мнения не дорожили деньгами, добивались великой славы и честного богатства»5).
Эту славу они любили пламеннейшим образом, ради нее хотели жить, за нее, не колеблясь, умирали. Все другие страсти свои они подчиняли этой великой страсти.
Так как подчиненное положение казалось им бесславным, положение же господствующее и повелевающее – славным, то и саму отчизну свою они желали прежде всего видеть свободной, а затем и господствующей. Поэтому-то, не вынося царской власти, они установили для себя однолетнее правление и двух повелителей, которые были названы консулами от consulendo, а не царями или господами от царствования и господствования. Хотя, возможно, цари (reges) получили свое название от управления (regendo), так что слово «царство» произошло от слова «царь», а слово «царь» – от слова «управлять»; но обстановка царственной власти, сообщавшая ей характер недоступности, была сочтена гордостью господствующей власти, а не порядком управления, а еще менее – благосклонностью власти, руководящей посредством советов (consulentis). Итак, когда был изгнан царь Тарквиний и установлены консулы, тогда произошло то, что, как говорит тот же автор, перечисляя достоинства римлян, «город, – трудно поверить, – став свободным, усилился за короткое время до такой необыкновенной степени, до какой увлекся необыкновенной жаждой славы»6).
Эта-то жажда доброго о себе мнения, это страстное желание славы и породили то множество удивительных дел, дел, по человеческой мерке, похвальных и славных.
Тот же Саллюстий хвалит великих и знаменитых мужей его времени, Марка Катона и Гая Цезаря, говоря, что Римская республика долго не имела великих по своей доблести, но на его памяти были эти два, великие доблестью, но различные нравом. Перечисляя при этом достоинства Цезаря, он к их числу относит то, что Цезарь страстно желал для себя большой власти, войска и новой войны, в которой мог бы блеснуть своей доблестью7). Таким образом, заветным желанием мужей великих доблестью было, чтобы Белл она возбуждала бедные народы к войне и терзала их кровавым бичем, лишь бы был случай блеснуть им своею доблестью. Это было делом жажды доброго о себе мнения и страстного желания славы. Итак, римляне совершили много великого сперва из любви к свободе, а потом – из любви к господству и из страстного желания доброго о себе мнения и славы. О том и другом свидетельствует и знаменитый поэт их; он говорит:
Тарквиний будет изгнан, и Порсена,
Приняв его, стеснит осадой Рим.
Энея чада, дорожа свободой,
Тогда поспешно с ними вступят в бой8).
Тогда-то для них было великим делом или умереть, как надлежит храбрецам, или жить свободными. Но когда свобода была обеспечена, ими овладело такое страстное желание славы, что одной свободы, без приобретения в то же время и господства, для них было мало. Тогда стало считаться для них великим то, о чем говорит тот же поэт как бы от лица Юпитера:
Но вразумится, наконец, Юнона,
Что в страхе ныне держит все окрест,
И укрепит со мной она власть римлян,
Вселенной хозяев, тоги носящий народ:
Так решено. Когда же минут годы
Дом Ассарака Фейю покорит,
На славные Микены иго рабства
Наложит, подчинит Аргос9).
Хотя Вергилий, выводя Юпитера якобы предсказывающим будущее, на самом деле говорил о том, что уже совершилось, и имел в виду настоящее: тем не менее, я счел нужным привести его слова для того, чтобы показать, что после свободы римляне особенно высоко ценили власть; так что она ставилась в числе их великих достоинств. Поэтому тот же поэт свойственное римлянам искусство царствовать, повелевать, покорять и подавлять народы ставит выше искусств других народов, говоря:
Иные выкуют изящно медь,
Явят из мрамора почти живые лица,
И речь произнесут, сочтут всех звезд орбиты,
Дав звездам имена; но ты, сын Рима, помни
В чем ты искусней всех: в правленъи миром,
В умении твоем давать законы,
Щадить покорных, низлагая гордых10).
Эти искусства они применяли к делу тем удачней, чем менее предавались чувственным удовольствиям и чем менее расслабляли душу и тело, гоняясь за богатством и увеличивая его, портя этим нравы, обирая бедных граждан, расточая (богатства) на гнусных актеров. А так как подобные нравственные язвы сделались уже господствующими и обычными в то время, когда писал вышеприведенное Саллюстий и воспевал Вергилий, то не теми уже искусствами тогда достигали римляне чести и славы, а хитростью и обманом. Поэтому тот же Саллюстий говорит: «Но первоначально побуждением для человеческих душ служило скорее честолюбие, чем жадность. Порок этот близок, впрочем, к добродетели. Ибо славы, чести, власти одинаково желают и человек добрый, и негодный; но первый (прибавляет Саллюстий) идет к этому прямым путем, а последний, не владея добрыми искусствами, добивается хитростью и обманом»11). Добрые искусства эти состоят в том, чтобы достигать чести, славы и власти добродетелью, а не лукавым честолюбием. И добрый, и негодный человек одинаково желают их; но первый, т. е. добрый, идет к ним прямым путем. Путь этот – добродетель, которая ведет, как к прямой своей цели, к славе, чести, власти. Что эти понятия были привиты римлянам, на это указывают храмы их богов. Считая богами дары Божии, они поставили рядом храмы Добродетели и Чести. Из этого можно видеть, какую цель они указывали добродетели, к чему направляли ее добрые люди. а именно-к чести. Ибо злые не имели ее, и хотя желали иметь честь, но старались добиться ее дурными искусствами, т. е. хитростью и обманом.
Лучший отзыв сделан о Катоне. О нем Саллюстий говорит: «Чем меньше он искал славы, тем скорее она следовала за ним»12). Слава, которой они страстно желали, представляет собой суждение людей, хорошо думающих о людях. Поэтому лучше та добродетель, которая не удовлетворяется судом человеческим, а только судом своей собственной совести. Соответственно этому апостол говорит: «Похвала наша сия есть свидетельство совести нашей» (2 Кор. 1,12). И в другом месте: «Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом» (Гал. 6,4). Итак, не добродетель должна гоняться за славой, честью и властью, которых они желали для себя и которых добрые люди старались достигнуть добрыми искусствами, а, напротив, они должны гоняться за добродетелью. Единственно истинная добродетель есть та, которая стремится к той цели, в которой заключается благо человека, не имеющее в сравнении с собою ничего лучшего. Поэтому и чести, которой просил Катон, он не должен был просить, а ее должно было дать ему общество за его добродетель без его просьбы.
Но из этих двух великих добродетелью мужей того времени, Цезаря и Катона, добродетель Катона была, очевидно, гораздо более похожа на действительную добродетель, чем добродетель Цезаря. Затем, каково было общество в то время и каково оно было прежде, это мы узнаем из речи самого Катона. «Не думайте, – говорит он, – будто наши предки сделали республику из малой великой посредством оружия. Если бы это было так, она у нас была бы (сейчас) несравненно лучше. У нас гораздо больше, чем у них, союзников и граждан, не говоря уже об оружии и боевых конях. Было другое, что сделало их великими и чего нет у нас: это – рачительность в делах внутренних, справедливое управление вне Рима, в совещании же о делах государственных – суждение свободное и непричастное ни к преступлению, ни к страсти. У нас же вместо этого – мотовство и жадность, бедность государственная, богатства в руках частных: отдаем честь богатству, любим бездеятельность; между хорошими и плохими людьми различия у нас нет; всем, что должно бы быть наградой добродетели, владеет у нас коварство. Поэтому нет ничего удивительного в том, что когда каждый из вас думает только о себе, когда дома вы предаетесь удовольствиям, а вне его раболепствуете перед деньгами или влиятельными людьми, нападение на республику не встречает сопротивления»13).
Слушающий эти слова Катона или Саллюстия подумает, что все древние римляне или по крайней мере большая их часть были в то время такими, какими их описывают. Но на деле было иначе. В противном случае было бы несправедливо то, о чем пишет тот же Саллюстий и о чем я говорил уже во второй книге этого сочинения.14) Он говорит, что с самого начала существовали притеснения со стороны сильнейших, а из-за этого – вражда между народом и патрициями и другие внутренние раздоры; что справедливость и беспристрастность соблюдались лишь в то время, пока, после изгнания царей, опасались Тарквиния и пока не окончилась жестокая война, начатая из-за него с Этрурией; а потом патриции стали относиться к народу, как к рабам, подвергать его, как прежде цари, истязаниям, лишать земли и, устранив других, править одни; возникшим из-за этого раздорам, когда одни хотели