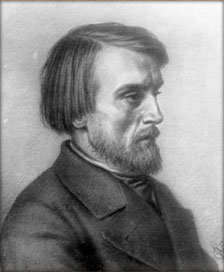тотчас валится, если ветер сдует хоть одну из песчинок, составляющих его зыбкое основание. Математика есть наука по преимуществу положительная и точная и между тем нисколько не эмпирическая, а выведенная из законов чистого разума, что одно и то же: что 2 × 2 = 4, эта истина узнана не из опыта, а из духа перенесена в опыт. Что такое все гипотезы, на которых основана астрономия, как не умозрение; а между тем разве астрономия наука не положительная? Два величайшие открытия в области нашего ведения – Америка и планетная система – сделаны à priori. Над Колумбом и Галилеем смеялись, как над сумасшедшими, потому что опыт явно опровергал их: но они верили своему разуму, и разум был оправдан ими.
Но еще страннее нам кажется мысль о каком-то современном соединении умозрительного и эмпирического способа исследования истины: помилуйте, это сущая нелепость, которою уничтожается целый круг знания, возможность всякой науки, потому что этим отрицается действительность не только умозрения, но и самого опыта: если умозрение нуждается в помощи опыта, значит оно недостаточно; если опыт нуждается в помощи умозрения, значит и он недостаточен. Признавая недостаточность опыта, мы уничтожаем реальность фактов, независимую от нашего сознания, и утверждаем тем, что посредством опыта решительно ничего не можно узнать; признавая недостаточность умозрения, превращаем наш разум в фантом и утверждаем, что и посредством разума ничего невозможно узнать. Следовательно, к чему же поведет это соединение? Только два однородные предмета могут составить одно целое. Другое дело – поверка умозрения опытом, приложение умозрения к фактам; это дело возможное. Если умозрение верно, то опыт непременно должен подтверждать его в приложении, потому что, как мы уже сказали, и самое опытное знание есть необходимо умозрительное вследствие того, что факт имеет жизнь и значение не сам по себе, а только по тому понятию, которое он пробуждает в нашем сознании и которое мы к нему прилагаем. Следовательно, если факты поняты верно, они непременно должны подтверждать умозрение, потому что умозрение не противоречит умозрению{5}.
Итак, сочинение г. Дроздова принадлежит к области умозрения, что и дает ему необходимо важность и силу в глазах людей мыслящих. Но отдавая ему должную справедливость, мы тем более должны быть беспристрастны и к его недостаткам. А главный его недостаток, как мы уже и заметили, состоит в противоречии автора с самим собою вследствие его неверности умозрению, которое он сам признает единственным законным способом исследования истины.
В § 13 своей книги г. Дроздов говорит:
Если высочайший закон нравственности должен иметь истинное достоинство и нравственную цену, то он должен происходить: а) из идеи высочайшего добра; б) обнимать всю область нравственной жизни, следовательно, иметь характер безусловной всеобщности; в) должен иметь прямое и преимущественное направление к нашему чувству, потому что только это чувство зависит от воли во всех отношениях жизни. Но когда станем требовать от высочайшего нравственного закона того, чтобы он всегда научал, как должен поступать нравственно-добрый человек в каждом особенном, непредвиденном случае, или будем требовать от него совершенно невозможного, или мораль должна превратиться в так называемую «казуистику».
Все это очень верно и делает большую честь мышлению автора; но вслед за тем встречается и противоречие, ложная мысль, которую очень неприятно встретить после таких прекрасных и истинных мыслей:
В таком случае, чтобы не расстроить связи и единства деятельной философии, лучше всего предоставить различение добра и зла самому произволу человека.
Нет, мы думаем, что все частные вопросы должны необходимо вытекать из основной идеи нравственности и решаться ею: в противном случае человек, предоставленный своему произволу, сам сделается казуистом. Эта ошибка повела автора к другой, важнейшей: заставила его, против воли, сделать из нравственной философии настоящую казуистику. Вторая часть его сочинения заключает в себе «частную нравственную философию», то есть именно приложение нравственной философии к частным случаям, которые, как и должно, нисколько не вяжутся ни с целым сочинением, ни друг с другом.
Подобных противоречий можно б было найти и более. Но не это цель наша: мы хотели обратить на сочинение г. Дроздова внимание публики, на которое оно имеет законные права, и потому, беспристрастно высказавши наше мнение о его недостатках, спешим выставить на вид то, что показалось нам в нем особенно достойным внимания.
Доброе есть религиозная идея, так же как истинное и прекрасное. Человеческий дух поставляет бога первоначальным источником столько же всего доброго, сколько всего истинного и прекрасного; следовательно, вечная идея доброго имеет тесную, предвечную связь с богом, существом всесвятейшим. Ибо все доброе принимает характер истинного добра не иначе, как от своего участия в превечном добре и превечной истине. Поэтому-то все нравственно-доброе и запечатлено печатню величия и святости, возбуждающих в человеке бесконечное благоговение. Ибо оно есть отражение высочайшего добра – бога.
Доброе имеет также теснейшее сродство с истинным и прекрасным. Ибо и оно так же, как истинное и прекрасное, не подлежит никакой перемене: вечно равное самому себе, оно никогда не теряет высокого значения своего для человеческого духа.
Нравственно-доброе становится изящным, когда обнаруживается в нас, как любовь к богу и человечеству. Поэтому каждый добрый поступок человека есть вместе истинный и прекрасный поступок (§ 10).
Вот истинные понятия о нравственно-добром и, к сожалению, так редко встречаемые в наших мыслителях! Конечно, ученый, бескорыстно орошающий потом чела своего ниву знания, поставивший в труде цель и счастие своей жизни и находящий в самом этом труде свою высшую, свою конечную награду, есть жрец, служитель бога; художник в ту минуту, когда воспроизводит в слове, краске или звуке дивные явления, таинственно соприсутствующие его душе, есть также жрец, служитель бога. Недаром в древности у всех народов жрецы были вместе и хранителями знаний и служителями искусства: это доказывают не одни брамины и маги, египетские и греческие жрецы; это доказывают и левиты еврейские, которые в то же время были и книжниками, т. е. хранителями и представителями народной мудрости. В средние века свет просвещения пламенел только в уединении монастырских келий, и только одни монахи, служители и мученики веры, были хранителями этого священного огня, не дали ему погаснуть до тех пор, пока он не перешел и к светским сословиям. Да придет же то время, когда люди убедятся, что науки и искусства суть также служение верховному добру, которое вместе есть верховная истина и красота! Гердер есть тип и предвозвестник этого времени, когда книга, перо, лира, кисть, резец будут кадилом божеству, орудиями священнослужения истине, добру и красоте, совершаемого тремя элементами нашего духа: разумом, волею и чувством.
Понятие и два рода совести. Совесть есть первоначальное чувство добра и зла, основанное на существе духовной природы человека. Она развивается в человеке вместе с развитием ума и обнаруживается, как совесть добрая, во всем чистом и справедливом образе деятельности н характера человека, но она становится совестию злою, угрызающею при всяком незаконном чувствовании или поступке существа свободного и разумного.
Примечание. Совесть, рассматриваемая в двух вышеупомянутых отношениях, разделяется на предыдущую и последующую. Первая предшествует поступку и состоит в сознании нравственного закона и обязанностей, возлагаемых им на свободу, воли нашей; последняя следует за поступком и оправдывает или осуждает человека, производя в нем сознание свободного исполнения или преступления закона.
Здесь мы опять невольно принуждены остановиться и спросить автора: из каких начал и вследствие какой необходимости вывел он это подразделение? Оно кажется нам совершенно произвольным, а следовательно, и неправильным; то, что автор называет «сознанием нравственного закона и обязанностей, возлагаемых им на свободу воли нашей», есть дело разума, а отнюдь не совести; следовательно, его «предыдущая» совесть принадлежит к казуистике, а не к нравственной философии.
Должно смотреть на совесть, как на существенную принадлежность нашей природы. Совесть принадлежит к существенным свойствам духовной природы человека, и никак не может быть следствием воспитания или каких-нибудь общественных господствующих привычек. Если бы то или другое было справедливо, то могли бы когда-нибудь обойтись без этого внутреннего судии. Но опыт уверяет, что хотя можно усыпить совесть. но никак нельзя совершенно искоренить ее в человеческом духе. И; одного мира она сопровождает нас в другой.
Есть люди, которые отрицают существование совести и почитают ее за предрассудок, основываясь на бесконечной разности понятий о добре и зле у разных народов. «У нас, говорят они, уважение к родителям и к старости есть одна из священнейших обязанностей, нарушение которой влечет за собою угрызение совести: но у многих диких народов дети вешают на деревьях своих престарелых родителей и исполняют это варварское дело как предписание закона или религии, неисполнение которого влечет за собою угрызение совести; у нас человеколюбие оказывается даже личным врагам: дикие мучат и едят своих пленников; у нас мщение есть порок: у варваров оно добродетель; следовательно, что ж такое совесть, если она в одном месте награждает за то, за что наказывает в другом, и наоборот?» Здесь явная ошибка, происходящая от того, что следствие принято за причину, то есть совесть за разум. Определим, что такое совесть. Человек создан для сознания, и потому может быть счастлив только вследствие сознания; следовательно, сознание есть его нормальное, естественное, а потому и блаженное состояние, которое проявляется в равновесии человека самому себе, в мире и гармонии с самим собою; бессознательность же есть состояние неестественное, болезненное, разрушающее равенство человека с самим собою, мир и гармонию его духа, следовательно, разрушающее его счастие. Итак, совесть добрая есть состояние сознания, злая – состояние бессознания. Первая условливает наше счастие, даже и в случае потерь, лишений, страданий, горестей, потому что, лишаясь счастия внешнего, мы не лишаемся счастия внутреннего, происходящего от сознания и состоящего в спокойствии и гармонии духа; вторая же и при внешнем счастии, состоящем в исполнении наших эгоистических желаний, лишает нас внутреннего счастия, которое одно истинно и удовлетворительно, потому что приводит наш дух в неравенство, в дисгармонию с самим собою вследствие бессознания. Выньте рыбу из воды, она издохнет, потому что вода есть стихия, которою она дышит; лишите человека сознания, он будет несчастлив, потому что сознание есть стихия его духовной жизни. И потому, когда человек делает то, чего по его сознанию ему не должно делать, он разрушает свою внутреннюю гармонию, потому что поступает против сознания. Если человек наслаждается полным счастием, и внешним и внутренним, если, не имея твердости лишиться внешних выгод, условливающих его счастие, он для сохранения их поступит недобросовестно, то непременно лишается не только своего внутреннего счастия, но и внешнего, потому что не внешним счастием условливается внутреннее, а внутренним внешнее. Напротив, хотя человек, который оставил своего отца, мать, братьев и сестер,