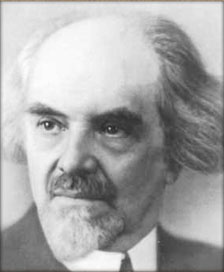апеллировать Иову, ибо он верил в Бога, возвышающегося над миром. Греческая трагедия находит выход лишь в эстетическом примирении с роком, amor fati.[6] Мир полон богов, но сами боги подчинены року. Платон пытался найти выход из имманентного круговорота космической жизни, в котором нет правды и справедливости, через обращение к иному миру, миру вечных идей. В идейном мире есть Верховное Благо, Добро. Но Платон оставался в непреодоленном дуализме. Мир идей не может изменить множественного чувственного мира и не может его спасти.
Но история мира, лежащего во зле, знает более потрясающую судьбу безвинного страдальца, чем судьба Иова, судьба Сократа и многого множества людей. Это судьба Иисуса из Назарета и Его распятие. Не нужно быть верующим христианином, чтобы признать, что Иисус из Назарета был величайшим из праведников, самым безгрешным в человеческом роде. Он не был узнан, за исключением немногих избранников, был отвергнут, был осужден на позорную казнь, был распят, претерпел крестную муку. Тут сосредоточены все страдания мира, страдания человеческие. Безвинное страдание, страдание праведного превращается в мистерию, в мистерию спасения. Раскрывается обратная сторона безвинного страдания. Смысл его виден сверху, а не снизу. Распят на кресте был не только самый праведный из людей, распят был Сын Божий. Безвинное страдание есть божественное страдание. И безвинное божественное страдание оказывается спасительным для всякого человеческого страдания. Мир лежит во зле, мир, в котором мы живем, не признал величайшего из праведников и распял его, распял Сына Божьего, распял самого Бога. Распятие Сына Божьего есть ответ и на страдание человеческое и на зло мира. Судьба Иисуса Христа совершается перед мировым злом, распинающим невинных и причиняющим неисчислимые страдания, и перед страданием невинных, униженных и угнетенных. Зло имеет двоякое проявление в мире – темная злая воля распинающих и безвинное страдание распинаемых. Зло есть причина несправедливости, неправды, страдания, и зло есть претерпевание несправедливости, неправды, страдания. В этом безмерная трудность всякой попытки сколько-нибудь понять действие Промысла Божьего в мире. Рационалистическое понимание Промысла Божьего неизбежно должно привести к отрицанию зла, т. е. в конце концов к точке зрения утешителей Иова. Рациональная теодицея, вроде, например, теодицеи Лейбница, ведет к атеистическому восстанию, к отрицанию Бога. Тайна же креста, распятие самого Бога, была для иудеев соблазном, для эллинов безумием. Мир лежит во зле, он есть падший мир, порожденный первородным грехом. В этом мире нельзя искать рациональной и моральной целесообразности. В этом мире есть зло, несводимое к добру, есть страдание безвинных, есть трагическая судьба праведных и великих, в этом мире пророки побиваются камнями и торжествуют злые, несправедливые, угнетающие людей, распинающие лучших. В этом мире есть страдание невинных детей, страдание невинных животных. В этом мире торжествует смерть, предельное зло и страдание. Действует ли в этом мире Промысел Божий? Это есть вопрос разума, бессмысленный перед мистерией, перед тайной любви. Страдание же есть мистерия и тайна. Мистерия страдания в том, что оно может превратиться в искупление. Мы стоим перед вопросом о происхождении зла в мире, сотворенном Богом, самым мучительным вопросом человеческого сознания и совести. Духовная жизнь поставлена перед страданием, страданиями собственными и страданиями других людей. Страдание связано с виной, древней, изначальной виной. Но есть и безвинное страдание. И если мое собственное страдание я могу пережить как вину, да и то не всегда, то переживание чужого страдания как вины легко превращает меня в утешителей Иова, и даже более и хуже того, в тех, которые распяли Христа. Это есть основной парадокс страдания и креста. Он связан с тайной жалости и любви. И парадокс этот означает двойственное отношение к страданию. Издревле человек искал избавления от непереносимого страдания и от рабьей зависимости от зла. С этим связаны самые большие духовные подъемы человечества. На мучительный вопрос о мировом зле и страдании давали свой ответ и люди, стоящие на вершине человеческой иерархии, как люди царской крови Сакия Муни, как император Марк Аврелий, и люди, стоящие на самой низшей ступени человеческой иерархии, как раб Эпиктет и как плотник Иисус, давший божественный ответ на это вопрошание.
В истории дохристианской духовности наибольший интерес представляют ответы буддизма, стоицизма, орфизма и неоплатонизма на вопрошание о зле. Здесь придется в другой связи повторить кое-что из того, что я говорил в главе об аскезе. Один из типов избавления от страдания и зла мировой жизни есть отказ от личности. Вне христианства это даже преобладающий тип. В буддизме это принимает радикальные формы отказа от бытия. Мы плохо понимаем индусскую и вообще восточную мысль, которая сложилась вне категорий, выработанных греческой и европейской философией. Чтобы понять ее, мы пытаемся перевести на категории собственной мысли, восходящей к греческой традиции. Поэтому понять, что такое буддийская нирвана, представляется мне проблематическим. Она, вероятно, находится по ту сторону различения между бытием и небытием. Но это отчасти можно понять по аналогии с апофатическим познанием. Буддизм познает бытие как страдание. Зло есть страдание. Познание той истины, что бытие есть страдание, есть уже путь к избавлению от страдания, от горя бытия. Это есть спасение через познание, т. е. самоспасение. Буддийское учение о спасении не нуждается в Спасителе. Очень спорно, можно ли назвать буддизм атеистической религией. Это скорее апофатическая форма пантеизма, акосмизм, а не атеизм. Буддизм боится страдания и отказывается от бытия, от человеческой личности, чтобы избавиться от страдания. В буддизме поражает, и трогает потрясенность человеческими страданиями, и ему свойственно великое сострадание не только к людям, но и к животным, ко всему живущему. В этом величие буддизма. Но буддизм знает лишь сострадание и не знает любви. Буддизм духовно холоден, он не знает теплоты человеческого сердца. Любовь есть избрание, она исключительна, она направлена вверх и связана с тайной личности. Сострадание, милосердие возможно ко всему живущему, направлено вниз, к миру страдающему и как бы богооставленному. Любовь утверждает бытие человеческой личности, утверждает на вечность. Буддизм же отказывается от утверждения человеческой личности. Личное бытие призрачно, оно и порождает страдание. В этом к буддизму близки Шопенгауэр и Л. Толстой, у которого тоже духовность носит имперсоналистический характер. Стоицизм возник в совершенно ином мире, чем буддизм. Но между ними есть формальное сходство, несмотря на огромные различия. У стоиков нет такой потрясенности страданиями, как у Будды, и они не отказываются от бытия. Но и стоики ищут прежде всего избавления от страдания, не изменяя мира, принимая его таким, каков он есть. Если буддизм пессимистичен, то стоицизм своеобразно сочетает пессимистическое, горькое чувство жизни с крайним космическим оптимизмом. Для избавления от страдания и зла жизни человек должен согласовать свою жизнь с мировым разумом, с космическим логосом и космической гармонией. У стоиков избавление от страдания и зла связано с изменением отношения к событиям жизни. Все зависит от отношения сознания. Всякое событие, даже самое мучительное, человек может сделать благоприятным для себя. Это зависит от достижения бесстрастия, апатии. Человек должен относиться с презрением, с безразличием ко всему, что от него не зависит, от него же зависит относиться с бесстрастием ко всему, что причиняет страдание. Стоическая духовность есть примирение с миром таким, каков он есть. Буддизм хочет, чтобы мир угас, рассеялся, как мираж и призрак. Стоицизм же думает, что миром правит разум, но нужно достигнуть мудрого безразличия к тому, что причиняет страдание, безразличия к смерти. Это есть духовная направленность мира, уже склоняющегося к упадку, предчувствующего свою приближающуюся смерть. Но в стоицизме есть элемент универсального гуманизма, возвышающий его над всем античным сознанием. В нем есть как бы предчувствие грядущего христианства.
Один из путей избавления от страдания есть путь снятия границ индивидуальности, погружение в безличную космическую стихию и слияние с ней. Это есть путь оргиазма. Дионисические культы шли этим путем. Такова вся космическая мистика язычества. Личность находит избавление от страдания и зла через исчезновение ее в космической первостихии. Вернее было бы сказать, что личность по-настоящему еще не пробудилась, самосознание личности еще не совершилось. Нет ничего удивительного в том, что человек искал избавления от страдания через отказ от утверждения личного бытия, через снятие границ и форм личностей. Личность есть боль, и борьба за реализацию личности есть страдание. Эта борьба за личность предполагает жертву, но жертва никогда не означает отказа от личности. Оргиастический дионисизм был исканием забвения и спасения. Но в нем не удерживался человек, нет человеческого, это есть путь богозвериности, минуя человеческое. Тут космическая стихийная основа человека опрокидывает лично-человеческий элемент, который был более связан с аполлоническим началом. Но без этой дионисической стихии, порождающей трагедию, также не могло бы быть полноты человечности. Исключительное преобладание аполлонического начала ведет к формализму, к закрытию бесконечности. Но настоящей религией избавления и спасения в Греции был орфизм. В орфизме варварская дионисическая стихия, не исконно греческая, а фракийская, подверглась греческой переработке и оформлению. Мистический дионисический элемент остался, но он более не разрывал образ человека в оргиастическом исступлении. Орфизм интересен особенно тем, что в нем обнаруживается греческий пессимизм, пессимистическое чувство мировой жизни. Мир во грехе лежит, и от этого зла мира человек жаждет избавления. Орфизму свойственно чувство древней вины. Человек есть двойственное существо, в нем есть божественный элемент и есть злой титанический элемент, приковывающий его к материальному миру. В основе этого мира лежит преступление титанов. Нужно освободить божественный элемент в человеке от элемента титанического. В мире материальном, в теле душа находится как бы в темнице и жаждет освобождения от тюремного заключения, возвращения на духовную родину из плена этого падшего мира. Орфизм имел огромное влияние на греческую философию, на Платона. Так формировалось греческое понимание проблемы зла. Зло происходит от материи, которая есть меон. Избавление от зла есть избавление от материи, отделение от нее высшего начала. Божественный элемент в человеке есть по преимуществу элемент интеллектуальный (нус), который и должен быть отделен от материи. Высшее не преображает низшего, оно просто отделяется, оттесняется от низшего, ввергает последнее в меоническое состояние. Это имеет определяющее влияние на неоплатоническую духовность и на гностицизм. Мы видели уже, что у Плотина зло происходит от смешения с материей, нужно отсечь, почти механически отделить высшую природу человека, которая сама по себе непорочна и чиста, от материи, и тогда достигается освобождение от зла, избавление от страданий. Тут своеобразно переплетается монизм и дуализм. Источник зла не в духе, не на вершинах бытия, а в материи, в низинах бытия. Но и орфизм и неоплатонизм остро чувствуют горе бытия, зло и страдание мира и