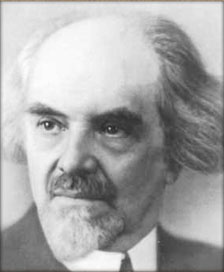о том, в чем эта воля заключается, каков смысл того, что требует Бог. Но ведь исполнение воли Божьей еще ничего не говорит о том, в чем эта воля заключается. Это есть формально-юридическая постановка вопроса. Я согласен исполнить волю Божью, если Бог есть бесконечная любовь, хотя и нелегко это мне. Но если Бог есть бесконечная злоба, то я не согласен исполнять волю Божью, хотя это, может быть, было бы и легче мне. В моем постижении Бога я не могу отделить Бога от Идеи Бога, от Смысла, от Любви, от Истины и Правды, от Красоты. Это отделение есть рабство духа, превращение Бога в ассирийского деспота. Спор о том, подчинен ли Бог истине и правде, как думал Платон, или Бог совершенно свободен и истина и правда есть лишь то, чего хочет Бог, как думал Дунс Скот, есть неверно поставленный спор, основанный на ложном разделении того, что нераздельно. Нельзя сказать, что Бог подчинен истине и добру, как началам, над ним господствующим, и также нельзя сказать, что истина и добро есть лишь то, чего захочет Бог. Такое расчленение совершенно неприменимо к природе Божества, и так же нельзя мыслить Бога моралистически, как нельзя его мыслить деспотически. Бог не может захотеть лжи, зла и уродства не потому, что Он ограничен истиной, добром и красотой, а потому, что Он есть Истина, Добро и Красота, что свобода и необходимость Истины, Добра и Красоты в Нем совершенно тожественны. Бог не может захотеть бессмыслицы, потому что Он есть Смысл, Смысл есть Его имманентная идея. Премудрость присуща Богу. Бог не может захотеть рабства, потому что рабство есть зло. Он может хотеть только свободы, потому что свобода есть Его идея, Его замысел о мире. Бог не может хотеть формального исполнения и подчинения своей воли, в чем бы эта воля ни заключалась, потому что у Бога не может быть темной воли, отделенной от идеи Бога, от Смысла, от Истины и Правды, от Свободы, без которой нет Смысла и нет Правды. Бог прежде всего хочет от человека свободы – такова воля Божья, неотрывная от идеи Божьей, и воля Божья должна быть исполнена. Во имя исполнения воли Божьей, идеи Божьей я не смею быть рабом, я должен быть свободен духом. Я и волю Божью не могу и не должен исполнять, как раб, я должен исполнять ее, как свободный духом, как духовное существо. Мы не рабы уже, а сыны, свободные, и свобода наша куплена дорогой ценой. В Сыне Отец открылся, как бесконечная любовь. Образ Бога, как властелина, требующего исполнения своей воли, требующего формальной покорности своей силе, исчезает, как порождение подавленности природного человека грехом. Если свобода не может быть противополагаема благодати, то она также не может быть противополагаема смирению. Смирение, как явление духа, есть сокровенный акт духа, оно есть явление внутри свободы, без свободы не может быть смирения и не имеет цены смирение. Смирение не есть внешняя покорность. Внешняя покорность и послушание не имеют цены. Ценно только просветление человеческой природы. Смирение есть внутреннее просветление духовного существа человека, вольная, свободная победа над всякой гордыней самоутверждения, над всякой злобой нашей низшей стихни. Смирение есть путь к новому рождению, перенесение центра тяжести жизни извне в глубину. Смирение совсем не есть внешняя покорность, внешнее подчинение своей воли чужой воле. Смирение, как религиозный факт, совсем не походит на покорность и подчинение членов коммунистической партии партийной дисциплине и центральному комитету партии. В этой покорности и подчинении природа человеческая остается неизменной, старой и отношения между человеком и той силой, которой он подчинен, остаются ветхими отношениями. В подлинном же смирении изменяется и просветляется природа человека. Смирение есть акт человека, направленный на самого себя, и оно предполагает великое напряжение свободы духа. Смирение есть путь освобождения от власти внешнего, чуждого, насилующего человека, обретение освобожденности духа, отреченности от власти порабощающих стихий, внутренней свободы от зла жизни. Рабье понимание смирения есть искажение христианства и извращение духовного пути. Смирение есть приобретение духовного мира, единение с высшими духовными силами, а не рабья покорность, всегда основанная на отсутствии этого мира и единения, на разрыве и отчуждении. Смирить свою волю значит проявить величайшую свободу, освободить свою волю от власти темных стихий. Смирение есть один из путей свободы. Смирение совсем не есть гетерономия, и явление смирения в жизни величайших святых и мистиков есть обнаружение совершенно «автономного» религиозного опыта. В акте смирения действует не чужая воля, а моя собственная воля, но воля просветленная и преображенная в высшую духовную природу. Смирение перед старцем, подчинение своей воли его духовному руководительству есть совершенно вольный акт, акт свободы, а не подчинение принуждающей силе. В самоутверждении я разрушаю собственную свободу, ввергаю свою природу в небытие. Смирение есть переход от эгоцентризма к теоцентризму. Автономия морали, науки, искусства, права, хозяйства, которую утвердила новая история, совсем не есть автономия самого человека. Все освобождалось, кроме самого человека. Человек делался рабом автономной морали, науки, права, хозяйства и пр.
§
Признает ли христианство свободу совести и веротерпимость? Этот вопрос имеет кровавую и трагическую историю, о нем соблазнялся христианский мир. Горели костры, лилась кровь, кипели злобные страсти, совершались величайшие насилия во имя религии любви, религии свободы. Защищали свободу совести и веротерпимость люди, равнодушные ко всякой религии; всякой вере. Легко быть терпимым ко всякой вере тому, кто ни во что не верит, кто равнодушен к истине. Но как соединить горячую веру и преданность единой Истине с терпимым отношением к ложной вере и к отрицанию Истины? Не есть ли веротерпимость всегда признак индифферентизма? Так и думают те христиане, которые отрицают свободу совести и веротерпимость. Защита свободы совести и веротерпимости стала прерогативой либерализма и гуманизма, никакой религиозной веры не держащегося. Свобода совести и веротерпимость защищаются, как совершенно формальные принципы, безотносительные к какой-либо положительной истине. Люди религиозные, верующие в положительную Истину, исключающую всякую ложь, защищали свободу совести лишь в таком месте и в такое время, где и когда вера их была гонима и утесняема. Так, католики, которые менее всего склонны были признавать принцип свободы совести, апеллировали к свободе совести в России, когда католическая вера была утеснена и ограничена в правах. Христианство в период гонений, до Константина Великого, защищало свободу религиозной совести в лице ряда апологетов и учителей Церкви. Но после Константина Великого, когда христианство стало господствующей религией, мы уже не слышим аргументов в защиту религиозной свободы, уже раздаются голоса в защиту насилия против еретиков и инакомыслящих, призыв к вмешательству меча государственного в дела веры. Так внешне, исторически стал этот вопрос и породил много лжи, неискренности, грубого утилитаризма. Но как внутренне поставить для христианского сознания вопрос о свободе религиозной совести, поставить его по существу, отрешившись от мирских выгод, от позитивизма и утилитаризма, примешанного к христианству в истории? Христианство эксклюзивно, и оно не может терпеть рядом с собой лжи, оно не может признавать равноценности Истины и лжи, не может быть равнодушно к тому, что люди ложь предпочитают Истине. Христианству чужд формальный либерализм, равнодушный к Истине, и христианское сознание не может защищать свободу религиозной совести аргументами формального либерализма. Христианская свобода не есть формальная, бессодержательная свобода природного Адама. В христианстве свобода не есть право, как в гуманистическом либерализме, свобода есть обязанность, долг перед Богом. И если христиане должны защищать свободу совести и веротерпимость, то совсем не по тем либеральным, формально-правовым основаниям, по которым защищает их мир, равнодушный ко всякой вере и всякой истине, дорожащий свободой заблуждения, лжи и зла. Люди, отрицающие самую религиозную совесть, могут лишь совершенно внешне защищать свободу религиозной совести, она нужна им, чтобы отстоять свое право на неверие и на ложь, она нужна им, чтобы их оставили в покое. Но только внутри христианства свобода религиозной совести и веротерпимость приобретают внутренний смысл и религиозное оправдание. Христианство признает свободу совести и требует терпимого отношения к человеческой душе, к ее интимному духовному опыту и духовному пути, потому что свобода входит в содержание христианской веры, потому что христианство есть религия свободы. Сам Бог бесконечно терпим к злу мира. Он терпит во имя свободы самых страшных злодеев. Не формально, а материально утверждает христианство свободу религиозной совести, утверждает свободу не из-за равнодушия к истине и согласия на ложь, а из веры в истину, которая есть откровение о свободе человеческого духа. Для христианского сознания свобода есть содержательная, предметная истина. Христос открыл нам бесконечную свободу духа и кровью своей укрепил ее на веки веков. Вера в Голгофу есть вера в свободу. Требование свободы религиозной совести в христианском сознании ставится на несоизмеримо большей глубине, чем в сознании либеральном, гуманистическом, внерелигиозном. Насилие над человеческой душой в делах веры есть измена Христу, отрицание самого смысла христианской религии, отрицание самой природы веры. Человек должен свободно пройти через испытания и свободно их преодолеть. Человек должен искать истину и исследовать истину. Отрицание религиозной свободы, фанатическая нетерпимость и насилие в духовной жизни родились из идеи принудительного спасения, идеи, противоположной смыслу христианства. Бог сам мог бы насильственно спасти весь род человеческий, мог бы лучше и вернее это сделать, чем насилие церковной иерархии или государственной власти. Но Бог не хочет насильственного спасения, ибо оно противоположно Его замыслу о мире и человеке, ибо Бог ждет свободного ответа человека на свой зов, ищет свободной любви своего другого. И Бог, как и человек, может сказать: насильно мил не будешь. Нельзя насильно вогнать в рай. Идея принудительного спасения, столь роковая по своим последствиям в истории, есть ложное уподобление Царства Божьего царству кесаря, есть принижение мира духовного до уровня мира природного. В мире природном, в царстве кесаря, царят насилие и принуждение. Мир духовный, Царство Божье, есть порядок свободы. Насилие никого не может спасти, потому что спасение предполагает акт свободы, спасение есть просветление свободы изнутри. История христианства полна насилий, но эта история не принадлежит духовному миру, не связана с сокровенной историей христианства, она принадлежит внешней социальной истории человечества, она определяется состоянием природного человека. Если средневековое христианство полно кровавых насилий, то повинно в этом не христианство, а то варварское природное человечество, которое с таким трудом проходило свой путь христианизации. То, что обыкновенно ставится в вину католической церкви, должно было бы быть поставлено в вину варварству человеческой природы. Но вопрос о религиозной свободе не есть исторический вопрос, это есть вопрос самого