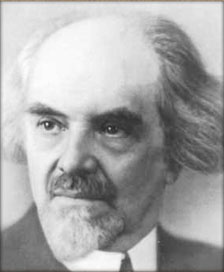знания, расширяет до полного стирания всех различий. И является опасность, что все кошки окажутся серы, что от такой мистической гносеологии мистицизм ничего не выиграет. Остается неясным, почему же гносеология Лосского должна повести к «онтологии древних или новейших рационалистов», а не к особой форме материализма? Лосский все время бессознательно строит онтологическую гносеологию, которая делает невозможной материалистическую онтологию и ставит его во враждебное отношение ко всем формам позитивизма. Пропедевтическая гносеология есть или самообман, или хитрость. Заслуга Лосского в том, что он блестяще показал невозможность такой пропедевтической гносеологии. Лосский во многих местах выдает себя, особенно когда говорит о зависимости теории суждения от онтологической проблемы пространства и времени. Для него ведь гносеологический вопрос есть вопрос об отношении бытия к бытию, а не мышления к бытию, и поэтому это вопрос гносеологически-онтологический. Лосский все время идет от бытия, а не от мышления, не от субъекта, и в этом вся оригинальность его точки зрения. Допуская бытие как нечто первоначальное, исходное, он тем самым устанавливает онтологические предпосылки гносеологии. Лосский не видит дефектов в нашем познании, так как задается целью строить пропедевтическую гносеологию и отрицает, чтобы дефекты лежали в самом механизме познания, в гносеологической природе восприятия. Но сам же Лосский помогает нам перенести вопрос о дефектах познания на почву онтологическую, увидеть корень зла в самом бытии, в самой живой действительности, а не в том, что субъект конструирует объект и тем умерщвляет в нем жизнь. Сам Лосский признает, что различие между явлениями, которыми занимается наука, и сущностью вещей лежит в самом бытии, а не в природе отношений между субъектом и объектом. Грехи познания могут быть объяснены лишь из грехов самого бытия. Познание наше болезненно не потому, что субъект конструирует объект, опосредствывает, что опыт есть лишь наше субъективное состояние или что знание есть лишь копия, отражение действительности, причем наш познавательный механизм оказывается кривым зеркалом, а потому, что все бытие наше болезненно, что мир греховен, что все в мире разорвано. Этим открываются новые перспективы для построения онтологической гносеологии.
III
Онтологическая гносеология исходит из того, что нам нечто дано до всякой рациональной рефлексии, до самопогружения и объективирования, до самого разделения на субъект и объект. Есть первичное, нерационализированное сознание, в котором даны живые связи с бытием, дано первоощущение бытия и происходящей в нем драмы. Знание, в котором мы путем рефлексии констатируем субъект и объект, есть уже во всех смыслах нечто вторичное, производное, из самой жизни рожденное. Знание есть функция мировой жизни, и философия органическая не должна выделять знание и ставить его настолько до этой мировой жизни, что ее считать как бы результатом знания. В наивном, дофилософском сознании есть здоровый реализм, здоровое чувство бытия, которое рассекалось и умерщвлялось рационалистическим развитием философии, процессом дифференцирования. Этот процесс дифференцирования захватил все стороны жизни и оторвал от органического центра. На высших своих ступенях процесс дифференцирования должен привести или к полному разложению и смерти, что мы и видим в европейской философии и многих сторонах европейской культуры, или вновь вернуться к первоначальной органичности и реалистичности, но на почве высшего сознания. Вот почему последние результаты мирового философского развития должны производить впечатление возврата к наивному реализму, к чему-то очень старому, очень примитивному. Таков закон диалектического развития. Вначале философия брала прежде бытие, потом мышление, в дальнейшем своем развитии стала брать прежде мышление, потом бытие, теперь философия вновь возвращается к тому состоянию, когда она сознательно уже, изведав все соблазны рационализма, скептицизма, критицизма, будет брать прежде бытие, потом мышление, увидит в мышлении функцию бытия.
То, что я говорю, вовсе не есть возвращение к психологическому направлению в теории познания, которое всегда рассматривает мышление как функцию жизни индивидуальной души. Наша тенденция ничего общего не имеет с психологизмом и субъективизмом. Наоборот, мы исходим из бытия универсального, видим в мышлении функцию мирового духа, сверхиндивидуального разума. Это, скорее, продолжение философии Шеллинга, преодолевающее окончательно отвлеченный рационализм. Мы утверждаем, что дано непосредственно универсальное бытие, а не то бытие, которое ограничивается кругом наших субъективных состояний, замкнутым кругом индивидуальных состояний нашего сознания. Не скрыта ли в первоначально данном универсальном бытии разгадка дефектов нашего познания, погрешностей рационализма? Только в глубоких наших связях с универсальным бытием, в лежащей в нас точке пересечения двух миров и можно искать разгадки этой болезненности нашего восприятия мира и самого процесса знания. Дефект нашего знания есть дефект самого бытия, результат греховности, отпадения от Бога. Первоначальное сознание греха должно стать основной, исходной точкой онтологической гносеологии. Грех есть источник всех категорий, над которыми рефлектирует гносеология, не понимая первоисточника всего того, с чем имели дело, так как начинает с вторичного.
Пространство, время, все категории познания, все законы логики суть свойства самого бытия, а не субъекта, не мышления, как думает большая часть гносеологических направлений. Пространственность, временность, материальность, железная закономерность и ограниченность законами логики всего мира, являющегося нам в «опыте», вовсе не есть результат насилия, которое субъект производит над бытием, навязывая ему «свои» категории, это – состояние, в котором находится само бытие. Бытие заболело: все стало временным, т. е. исчезающим и возникающим, умирающим и рождающимся; все стало пространственным, т. е. ограниченным и отчужденным в своих частях, тесным и далеким; стало материальным, т. е. тяжелым, подчиненным необходимости; все стало ограниченным и относительным, подчиненным законам логики. Наш «эмпирический» мир есть действительный мир, но больной и испорченный; он воспринимается таким, каков он есть в данном своем дефектном состоянии, а не таким, каким его конструирует субъект; он познается наукой, наука имеет дело с реальностью, а не с состояниями сознания и элементами мышления, но реальностью больной. Материя есть действительность, но действительность болезненная, равно как и пространство и время. Поясню сравнением. Когда я воспринимаю лицо, покрытое болезненною сыпью, то сыпь эта есть действительность, которую я воспринимаю реально и познаю, но не в сыпи ведь сущность лица, сыпь есть лишь болезненное состояние лица. За сыпью я прозреваю истинное лицо, чистую сущность лица. То же и в нашем восприятии и познании мира. Мы воспринимаем болезненную сыпь мира – являющееся нам в пространстве и времени материальное бытие. Наука познает действительность, но действительность эта не есть сущность бытия, а лишь болезненные его проявления. Дефект нашего восприятия мира и нашего знания есть результат греховности бытия, заболевания, покрывшего лицо бытия сыпью.
Вот какими словами начинает Лосский свое «Обоснование интуитивизма». «В душе каждого человека, не слишком забитого судьбой, не слишком оттесненного на низшие ступени духовного существования, пылает фаустовская жажда бесконечной широты жизни. Кто из нас не испытывал желания жить одновременно и в своем отечестве, волнуясь всеми интересами своей родины, и в то же время где-нибудь в Париже, Лондоне или Швейцарии в кругу других, но тоже близких интересов и людей? Как тяжело думать, что вот „может быть“ в эту самую минуту в Москве поет великий певец-артист, в Париже обсуждается доклад замечательного ученого, в Германии талантливые вожаки грандиозных политических партий ведут агитацию в пользу идей, мощно затрагивающих существенные интересы общественной жизни всех народов, в Италии, в этом краю, „где сладостный ветер под небом лазоревым веет, где скромная мирта и лавр горделивый растут“, где-нибудь в Венеции в чудную лунную ночь целая флотилия гондол собралась вокруг красавцев-певцов и музыкантов, исполняющих так гармонирующие с этой обстановкой серенады, или, наконец, где-нибудь на Кавказе „Терек воет, дик и злобен, меж утесистых громад, буре плач его подобен, слезы брызгами летят“, и все это живет и движется без меня, я не могу слиться со всей этой бесконечной жизнью. Высшего удовлетворения достигли бы мы, если бы могли так отождествиться со всем этим миром, что всякое другое „я“ было бы также и моим „я“. Однако всем этим желаниям полагает конец жалкая ограниченность индивидуального бытия, приковывающая меня к ничтожному комку материи, моему телу, замыкающая меня в душную комнату и предоставляющая мне лишь тесный круг деятельности». «Фаустовская жажда бесконечной широты жизни» влечет Лосского к пересмотру теории знания, верный инстинкт подсказывает ему, что в интуитивизме спасение от этой замкнутости и ограниченности. Но всякое знание оказывается, по Лосскому, интуитивным, т. е. и то знание, которое оставляет в темнице, ни с чем не соединяет и от всего отрывает. Это основное противоречие Лосского, за которое ему придется расплатиться в онтологии. Пространство и время сковывают нас, мешают охватить всю полноту бытия. Спрашивается, всякое ли знание охватывает бытие, преодолевая пространство и время, или только высшее знание, знание метафизическое, всякое ли восприятие – мистическое или только высшее восприятие, восприятие квалифицированное? Лосский полагает, что всякое восприятие – мистическое, что всякое знание заключает в себе бытие вневременное и внепространственное, и этим ослабляет свою позицию, не может сознать и осмыслить нашей болезненной ограниченности. Бытие греховно, все мы участвуем в грехе, и потому мы не можем отождествиться со всем миром и всякое другое «я» не может быть и моим «я». Рационализм со всеми своими разновидностями не есть только ложная теория знания, он есть болезненный факт самого бытия. Рационализм нельзя победить новым истолкованием знания, новой гносеологией, его можно победить лишь переходом к новому бытию. Сфера интуитивного знания гораздо шире, чем обычно думают, но все же уже, чем думает Лосский. Невозможно совершенно отрицать различие между интуитивным и дискурсивным мышлением. Дискурсивное мышление отражает болезненность познания; но ведь болезненность эта реально существует, и Лосский не может ее отрицать. Там, где нет непосредственного усмотрения бытия, где субъект оторван от объекта, там делаются выводы, там мыслят дискурсивно. Не во всех – увы – суждениях заключена сама действительность. Если бы она всегда заключалась, то ложь была бы невозможна или почти невозможна. В своем новаторском пылу Лосский впадает в слишком большой оптимизм. Новая теория восприятия и суждения, новое истолкование механизма познания в духе мистического эмпиризма представляют старое знание в новом освещении. Но раскрываются ли новые горизонты? Но расширяется ли сфера опыта «обоснованием интуитивизма»? Лосский отчасти впадает в ошибку, сглаживает различия и отворачивается от дефектов познания, отчасти же не делает тех выводов, которые должен был бы сделать.
Различие между сущностью и явлением – онтологическое, а не гносеологическое. Так думали Гегель и Шеллинг, так думает и Лосский. Но как онтологически объяснить, что мы воспринимаем и познаем явления, а не сущность? Это объяснимо испорченностью и греховностью как нашей собственной, так и всего мира. Грех отделяет субъект от объекта, вырывает пропасть между нашим «я» и другим «я», отрывает каждое существо от абсолютного