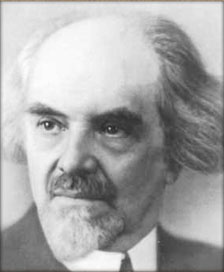их. Мир пошел по пути объективации существования, и я ввергнут в этот процесс, я ответствен за него. Я не могу лишь на других возлагать за него ответственность, выделяя себя, как чистого от грязи истории. История наложила на меня неизгладимую печать. И вместе с тем я свободный дух, личность, несущая в себе образ Божий, а не только образ мира. В этом трудность, в этом трагизм моего положения. Нужно сохранить свою свободу в царстве необходимости. Это есть не легкая, а трудная свобода, свобода, знающая сопротивление.
История совершает надо мной насилие и совсем не заботится обо мне. Таков один из ее аспектов. Но история есть и моя история, она и со мной происходила. Если человек заключает в себе космос, то еще более можно сказать, что он заключает в себе историю. В моей духовной глубине, в трансцендентальном человеке сняты противоположности. История древних Израиля, Египта, Персии, Вавилона, Греции и Рима, средневековья и Ренессанса со мной произошла, это моя история, и только потому она может быть мне понятна. Это мой путь, мои искания и соблазны, мои падения и подъемы. Если бы это было для меня лишь объективация и объектность, в которой все получено лишь извне, то я ничего понять не мог бы. Русская революция и со мной произошла, я за нее ответствен, она есть лишь мой путь и опыт. Я никогда не должен становиться в позу человека, который себя считает пребывающим исключительно в правде, а других – пребывающими во лжи и неправде. Я ничего не должен рассматривать как совершенно внеположное мне. За дело Каина и я ответствен. История и чужда мне, как объективация, как отчуждение, и близка мне, она и моя. Из этого противоречия в пределах нашего мира выйти нельзя. Человек по своей природе и по своему назначению есть историческое существо, он связан не только со всей историей, но и со всей космической жизнью. Спасать, если уже употреблять это выражение, должны не только себя, но и всю историю, и весь мир. Я никого не должен отбрасывать в ад и этим себя готовить в рай. Это самый плохой способ приготовления себя для рая. Между тем как этот способ часто рекомендуется в старых наставлениях для аскетической и духовной жизни. Именно тогда человек должен был быть покорен истории, данной ему извне, послушен господствующим в ней силам, но, в сущности, не участвовать в ней. Очень многое в истории признавалось священным, и исторически священное сращивалось с откровением. Но при этом история нисколько не принималась и в ней не участвовали активно. Верно обратное. Ничто не должно быть признано в истории сакральным и ни к чему в ней не должно быть отношения покорности и послушания. Но нужно принять историю внутрь себя и активно участвовать в исторической судьбе. Я принимаю историю не потому, что я часть истории, а потому, что история часть меня. Это значит, что я принимаю ее не как послушный раб, а как свободный человек. Я не могу принять извне и историческое откровение как авторитет для меня. Я принимаю его как событие моей духовной жизни, моего духовного опыта, как вечную по своему значению символику духа. Вне этого историческое откровение есть объективация, имеющая [лишь] социологическое значение. История, данная мне извне как объективация, поражена безвыходным релятивизмом, в ней все относительно, все текуче, ни на что нельзя опереться. Известные точки истории хотят признать устойчивыми, твердыми, священными. Но на этом устоять невозможно, историческая критика все разрушает. Нужно признать прорывы метаисторического в истории, и только в этом метаисторическом есть священное. Но вошедшее в историю метаисторическое легко подвергается объективации, и тогда вновь все становится относительным и условным. И нужно ждать нового прорыва метаисторического. Это связано с профетической стороной религиозной жизни. В точном смысле слова священной истории не существует, существует лишь священная метаистория. Но границы истории и метаистории с трудом определимы. Историзм ложен не только как научное и философское миросозерцание, но он ложен и как религиозная вера И вместе с тем христианство исторично, есть вхождение Бога в историю, и оно дает трансцендентный смысл истории. Христианство принимает смысл истории и вне истории немыслимо, как мыслимы вне истории религии языческие, это связано с христианским мессианизмом. И вместе с тем история искажает христианство, часто до неузнаваемости. Историческое осуществление христианства было его великой неудачей. Это есть основная антиномия, в пределах истории неразрешимая. Совершенно бесплодно отвлеченное морализирование над историей, оно ни к чему не ведет. Нужно или совершенно отвергнуть историю, как делает индусская мысль, как делает Шопенгауэр, Л. Толстой особенно последовательно, или принять ее внутрь себя, делая усилие не заразиться ее злом. Я должен быть свободен от власти мира и должен брать на себя то, что делается в мире, не уходить от него в сферу отвлеченную. Это очень трудно.
Философия истории имеет дело с основной антиномией свободы и необходимости, свободы человека и его исторической судьбы. История давит на человека своей массивностью, эта массивность импонирует. Замечательна судьба философии истории Гегеля. Он считал свою философию философией свободы. Это была прежде всего философия духа, в понимание духа именно он внес свободу как существенное его определение. И вместе с тем Гегель в сущности отрицал свободу. Свобода была для него сознанной необходимостью, т. е. продуктом необходимости. Он решительно восстал против понимания свободы у Канта, который действительно признавал свободу более других философов. Гегелевская свобода есть свобода универсального, а не индивидуального. В конце концов свободен универсальный дух, а не конкретный индивидуальный человек, который приносится в жертву универсальному духу. Это то, против чего протестовал Белинский, еще глубже Достоевский и Кирхегардт. Марксистская философия истории вполне наследует гегелевское понимание свободы. Русские коммунисты лишь вульгаризировали гегелевскую идею. Для Гегеля свобода осуществлялась в прусском государстве. Для коммунистов она воплощается в советском государстве, в коллективе. Но человеческая личность совсем оказывается не наделенной свободой. Свобода есть лишь служение универсальному духу, воплощенному в государстве, или коммунистическому обществу, Левиафану-коллективу. Абсолютный идеализм так же отрицает свободу, как и диалектический материализм. Зависимость марксизма от Гегеля огромна. Но противоположное заблуждение, против которого также решительно нужно возражать, есть исключительно формальное, пустое, либеральное, слишком легкое понимание свободы. Свобода как творческий акт человека не в пустом пространстве действует, она стоит перед сопротивлением массивной необходимости природы и истории. В истории действует не только свобода, которая приходит как бы из иного мира, но и жесткая необходимость, за которой может быть скрыта злая, дурно направленная свобода. Гегель склонился перед этой железной необходимостью и покрыл ее своей философией духа. Но свобода может действовать в сопротивлении необходимости. История и есть арена борьбы свободы и необходимости, в ней всегда есть доля свободы и доля необходимости. Я называю пустой свободу, когда она не знает сопротивления, когда она слишком легкая. В сопротивлении и борьбе свобода закаляется и укрепляется. В пустоте, в которой нет сопротивления, свобода разлагается. Такова буржуазная, эгоистическая, скупая свобода. Свобода требует жертвы и самоотдачи. Она менее всего есть самоутверждение. Свободой могут злоупотреблять для дурных целей. Ее могут защищать те, которым менее всего свойственна свобода духа. Свободу духа [действительно] могут защищать лишь те, кто признает существование духа. Материализм, последовательно проведенный, неизбежно приводит к отрицанию не только свободы духа, но и вообще свободы. Также враждебен свободе и абсолютный идеализм. Только персоналистическая философия может защищать свободу. Историческая необходимость очень тяжела для моей свободы. Но не следует персонифицировать историческую необходимость, не следует видеть в ней фатум. За исторической необходимостью, ставшей очень массивной и давящей, могут быть скрыты акты свободы в прошлом. Постоянно происходят столкновения свобод разных порядков. Без свободы не существует истории, без свободы история превращается в космический круговорот. Время историческое в отличие от времени космического предполагает свободу. Но действующая в историческом времени свобода вкоренена во времени экзистенциальном. За историей мира скрыта сила мета-физическая и мета-историческая. И в этом необычайная сложность истории. В истории я должен действовать как свободный дух и как историческое существо. Я принужден действовать в противоречии с миром и с собой. И меня со всех сторон подстерегают опасности. Моя свобода не бывает легкой, она не бывает пустой. Она все время должна определять свое отношение к истине и к исторической реальности. Человек обречён проходить через путь истории.
Но в историческом пути могут быть эпохи богооставленности, может быть прохождение через тьму и близость к аду. Это есть лишь испытание сил человека и путь. Но в конце концов свету принадлежит победа над тьмой. Но эта окончательная победа остается для нас вещью невидимой, это предмет веры и надежды. В эмпирической, феноменальной действительности мы не видим победы света, в истории нет торжества добра. Мы живем в эпоху, которую можно характеризовать как вступление в ночь. Но в ночи может быть и самый сильный свет. История совсем не есть рациональный процесс, в котором происходит прогрессивное торжество разума. В ней действуют вулканические, иррациональные силы, которые бывают прикрыты и придавлены, но периодически прорываются в войнах и революциях. Эти иррациональные силы пытаются победить рационализацией. Но это никогда не может вполне удаться. Мы живем в эпоху, когда разом обнаруживаются иррациональные силы истории, расплавляются все твердые тела и врывается хаос и вместе с тем обнаруживается воля к крайней рационализации жизни (напр‹имер›, в марксизме) Но самая эта рационализация делается иррациональной силой. Великий опыт, совершенный русским народом, обнаруживает иррациональность рационального. Таков один из парадоксов истории. Иррациональное не может быть окончательно побеждено рациональным, оно может быть побеждено лишь сверхрациональным. В этом объяснение бессилия рационального гуманизма в борьбе с бесчеловечностью эпохи, с отрицанием человека. Отсюда бессилие защиты рациональных прав и рациональной свободы перед угрозой их истребления рационализованным иррациональным. Отсюда и бессилие христианства, которое стало слишком рационализованным, слишком социализированным в результате приспособления к разлагающемуся социальному строю. Мы принуждены по всем видимостям признать, что история есть великая неудача. Эта неудача определяется непреодолимым конфликтом человека и истории. Все большие движения истории, которые совершались во имя человека, кончались тем, что тяжело ударяли по человеку. А сколько было движений, которые совсем не во имя человека совершались. В истории человек истязался людьми же, одержимыми фатальной силой. История есть неудача еще потому, что внутри ее неразрешим конфликт свободы и необходимости, необходимость постоянно одолевает свободу. История есть неудача и потому, что в ней творческий акт человека объективируется и этим охлаждается, теряет свой огонь, приспособляется к среднему человеческому уровню. Человек постоянно