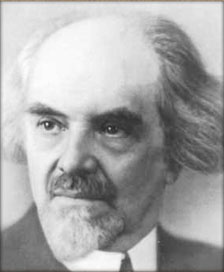и искусства, вся история их – мне милее, чем Россия. О, русским дороги эти старые, чужие камни, эти чудеса старого Божьего мира, эти осколки святых чудес; и даже это нам дороже, чем им самим… Одна Россия живет не для себя, а для мысли, и знаменательный факт, что вот уже почти столетие, как Россия живет решительно не для себя, а для одной лишь Европы». Таких слов не мог бы сказать ни один славянофил. Этот мотив повторяется и у Ивана Карамазова. «Я хочу в Европу съездить; и ведь я знаю, что поеду лишь на кладбище, но на самое дорогое кладбище, вот что. Дорогие там лежат покойники, каждый камень над ними гласит о такой горячей минувшей жизни, о такой страстной вере в свой подвиг, в свою истину, в свою борьбу и в свою науку, что я, знаю заранее, паду на землю и буду целовать эти камни и плакать над ними – в то же время убежденный всем сердцем в том, что все это уже давно кладбище и никак не более». То же повторяется в «Дневнике писателя»: «Европа – но ведь это страшная и святая вещь, Европа. О, знаете ли вы, господа, как дорога нам, мечтателям-славянофилам, по-вашему ненавистникам Европы, – эта самая Европа, эта „страна святых чудес“. Знаете ли вы, как дороги нам эти „чудеса“ и как любим и чтим, более чем братски любим и чтим мы великие племена, населяющие ее, и все великое и прекрасное, совершенное ими. Знаете ли вы, до каких слез и сжатия сердца мучают и волнуют нас судьбы этой дорогой и родной нам страны, как пугают нас эти мрачные тучи, все более и более заволакивающие ее небосклон? Никогда вы, господа, наши европейцы и западники, столь не любили Европу, сколько мы, мечтатели-славянофилы, по-вашему исконные враги ее». Так не говорили ни славянофилы, ни западники. Лишь один К. Леонтьев, который не был ни славянофилом, ни западником, мог сказать о прошлом Европы сходные слова. Русские религиозные мыслители типа Достоевского и К. Леонтьева не отрицали великой культуры Западной Европы. Они чтили эту культуру более, чем современные европейские люди. Они отрицали современную европейскую цивилизацию, ее «буржуазный», мещанский дух, обличали в ней измену великим преданиям и заветам прошлого европейской культуры.
Противоположение России и Европы для многих русских писателей и мечтателей было лишь противоположением двух духов, двух типов культуры, было лишь формой духовной борьбы с тенденциями современной цивилизации, угашающей дух. Славянофильство, восточничество было своеобразной аберрацией сознания. Два духа борются в мире, и начинает побеждать дух мещанской цивилизации вследствие измены христианским основам культуры. Дух материалистический возобладал над духом религиозным, прикованность к земным благам закрывает небо. Такова мировая тенденция современной цивилизации. Она впервые ясно обнаружилась у народов Европы. Нас спасала наша «отсталость». И вот является соблазн думать, что эта мировая тенденция современной цивилизации не имеет власти над Россией и русским народом, что мы другого духа, что она есть лишь явление Запада, народов Европы. Религиозные направления русской мысли, русской литературы окрасились в цвет славянофильства, восточничества. Это был защитный цвет. Германия в начале XIX века, в эпоху великого творческого подъема германского идеализма и романтического движения, пережила схожую настроенность и схожее самосознание. Идеалистический дух, романтическая настроенность, преобладание высших духовных интересов утверждались как германский дух, германская настроенность, германские интересы, в противоположность не духовному направлению «Запада», Франции и Англии. Это сопровождалось исключительным подъемом и напряженностью германского мессианского сознания. Но потом Германия пошла по пути материализации и изменила своим высшим заветам духа. Борьба двух духов, двух типов культуры религиозной и безрелигиозной цивилизации всегда была имманентной самой Западной Европе, она велась на европейской почве. Французские романтики, французские символисты, французские католики XIX века, как Барбэ д’Оревильи, Вилье де Лиль-Адан, Гюисманс, Л. Блуа, всем существом своим и всей страдальческой своей жизненной судьбой противились господствующему духу века, т. е. европейской и французской цивилизации XIX века, которая ранила их не менее, чем славянофилов, Достоевского, К. Леонтьева. И они обращались к средневековью, как к своей духовной родине. Все явление Ницше, с его страстной мечтой о трагической, дионисической культуре, было страстным и болезненным протестом против торжествующего духа европейской цивилизации. Тема эта – мировая, и она не может быть понята как тема о противоположении России и Европы, Востока и Запада. Это – тема о противоположении двух духов, двух типов культуры внутри Европы, и внутри России, на Западе, как и на Востоке. Избранным русским людям, величайшим и оригинальнейшим нашим мыслителям и писателям было дано в этой теме что-то острее почувствовать, чем людям Запада, более связанным характером своей культурной истории. Даже Герцен тут что-то лучше чувствовал, чем чувствовали европейские люди 40-х годов. Но нельзя было сделать отсюда того вывода, что в России не будет побеждать эта мировая тенденция современной цивилизации, этот безрелигиозный дух, что дух не пойдет и у нас на убыль. В Россию пришли марксисты и имели успех. И в России происходит борьба двух духов, двух типов культуры, или, точнее, – духа с угашением и ослаблением духа, подлинной культуры и цивилизации. И в России может возобладать не дух, не культура. Дух и культуру я не только сближаю, но отождествляю, ибо культура всегда духовна по своей природе, не духовной может быть лишь цивилизация, культура же всегда связана со священным приданием, с культом предков. Достоевский лучше всех, острее всех ощутил двойственность грядущего, нарастание в нем антихристова духа. Он раскрыл движение этого духа в России, в России прежде всего. А К. Леонтьев в последний период своей жизни отчаялся в том, что Россия явит еще новый тип цветущей культуры, противоположный вырождающейся европейской цивилизации, схожий с былыми цветущими культурами Европы. Он дошел до отчаяния, увидев в России торжество ненавистного ему мирового уравнительного процесса, и им были сказаны жуткие слова, что России, быть может, предстоит единственная религиозная миссия – рождение из ее недр антихриста. Так саморазложилась у нас идея религиозного народничества, которому ход русской истории наносит страшные удары. И трагичной оказалась судьба русской мессианской идеи.
«Всякий великий народ должен верить, если только хочет быть долго жив, что в нем-то, и только в нем одном, заключается спасение мира, что он живет на то, чтобы стоять во главе народов, приобщить их всех к себе воедино и вести их в согласном хоре к окончательной цели, всем им предназначенной». Так формулирует Достоевский в «Дневнике писателя» свою потребность в мессианском национальном сознании. В таком мессианском сознании изначально отсутствует национальная исключительность, национальный партикуляризм. Мессианское сознание народа есть универсальное, вселенское сознание. Мессианский народ призван послужить делу спасения всех народов, всего мира. И такую задачу всеобщего спасения ставит Достоевский перед русским народом, народом-богоносцем. Мессианизм не есть национализм. Мессианизм претендует на несоизмеримо большее, чем национализм. Но в нем нет исключительного национального самоутверждения. Славянофилы были в значительной степени националистами по своему сознанию. Они верили, что русский народ являет собою высший тип христианской культуры. Но они не претендовали на то, что русский народ должен спасать все народы и весь мир, раскрывать вселенскую правду. Во всеобъемлющем гении Пушкина открывает Достоевский всечеловечность русского народного духа. Его поражает в Пушкине «способность всемирной отзывчивости и полнейшего перевоплощения в гений чужих наций, перевоплощения почти совершенного». «Способность эта есть всецело способность русская, национальная, и Пушкин только делит ее со всем народом нашим». В противоположность славянофилам он говорит, что «стремление наше в Европу, даже со всеми увлечениями и крайностями его, было не только законно и разумно в основании своем, но и народно, совпадало вполне со стремлением самого духа народного, а в конце концов, бесспорно, имеет и высшую цель». «Русская душа, гений народа русского, может быть, наиболее способный из всех народов вместить в себя идею всечеловеческого единения, братской любви». Достоевский с гениальной чуткостью открывает, что беспокойное и мятежное русское скитальчество, странничество нашего духа есть явление глубоко национальное, явление русского народного духа. «В Алеко Пушкин уже отыскал и гениально отметил несчастного скитальца в родной земле, исторического русского страдальца». Дальнейшей судьбе этого скитальца посвящено все творчество Достоевского. Он его более всего интересовал. Почвенные люди, крепко вросшие в землю, люди крепкого быта не интересовали Достоевского. «Русскому скитальцу необходимо именно всемирное счастье, чтобы успокоиться: дешевле он не примирится». Так раскрывается в русском скитальчестве, в русском отщепенстве всечеловеческий дух русского народа. Мысли Достоевского и тут антиномичны, и антиномизм этот порождается динамизмом мысли, не желающим знать ничего статического и устойчивого. Русский скиталец оторвался от народной почвы. В этом грех его и бесплодие его творческой жизни. Но русский скиталец, которого Достоевский считал продуктом русского барства и презрительно называл «gеntilhоmе russе еt сitоуеn du mоndе», – явление глубоко русское и только в России встречающееся, одно из явлений нашего народного духа. Таких антиномических мыслей о «русском скитальце» не могла бы вместить более гладкая славянофильская мысль. Достоевский любил русского скитальца и был страшно заинтересован его судьбой. Он считал русскую «интеллигенцию», оторвавшуюся от «народа», национальным явлением. Очень важно понять это отношение для миросозерцания Достоевского. Поэтому религиозное народничество Достоевского было очень сложным сочетанием антиномических мыслей. Он призывал преклониться перед «правдой народной», искать «истину народную и истину в народе». Под «народом» же он понимал то мистический организм, душу нации, как великое и таинственное целое, то преимущественно «простой» народ, мужиков. В этом сказывалась обычная неясность и спутанность нашего народнического сознания. Но ведь можно и иначе понять задачу русского скитальца. Он может в своей собственной глубине раскрыть и осознать народную стихию и стать народным потому, что обнаружит эту глубину. Ибо глубина каждого русского человека есть народная глубина. «Народное» не вне меня, не в мужике, а во мне, в глубинном пласте моего собственного бытия, в котором я уже не являюсь замкнутой монадой. Это и будет единственным правильным отношением к «народу» и «народному», имманентным отношением. Я не «народ», оторван от «народа», поскольку я нахожусь на поверхности, а не в глубине. И чтобы стать «народом», мне не нужно никаких мужиков, никакого простонародья, мне нужно лишь обратиться к собственной глубине. То же верно и для сознания церковного. В чем же «правда народная», раскрывающаяся в глубине? Достоевский не заимствовал ее у мужиков, у простонародья, которому эмпирически она чужда, она раскрылась в глубине его духа. Достоевский и есть «народ», более народ, чем все крестьянство России. «Назначение русского человека есть бесспорно всеевропейское и всемирное. Стать настоящим русским,