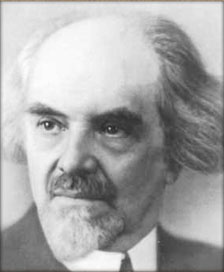узы, которые видны при дневном свете сознания. Существуют более таинственные отношения и узы, уходящие в глубину подсознательной жизни. У Достоевского иной мир всегда вторгается в отношения людей этого мира. Таинственная связь связывает Мышкина с Настасьей Филипповной и Рогожиным, Раскольникова со Свидригайловым, Ивана Карамазова со Смердяковым, Ставрогина с Хромоножкой и Шатовым. Все прикованы у Достоевского друг к другу какими-то нездешними узами. Нет у него случайных встреч и случайных отношений. Все определяется в ином мире, все имеет высший смысл. У Достоевского нет случайностей эмпирического реализма. Все встречи у него – как будто бы нездешние встречи, роковые по своему значению. Все сложные столкновения и взаимоотношения людей обнаруживают не объективно-предметную, «реальную» действительность, а внутреннюю жизнь, внутреннюю судьбу людей. В этих столкновениях и взаимоотношениях людей разрешается загадка о человеке, о его пути, выражается мировая «идея». Все это мало походит на так называемый «реалистический» роман. Если и можно назвать Достоевского реалистом, то реалистом мистическим. Историки литературы и литературные критики, любящие вскрывать разного рода влияния и заимствования, любят указывать на разного рода влияния на Достоевского, особенно в первый период его творчества. Говорят о влиянии В. Гюго, Жорж Занд, Диккенса, отчасти Гофмана. Но настоящее родство у Достоевского есть только с одним из самых великих западных писателей – с Бальзаком, который так же мало был «реалистом», как и Достоевский. Из великих русских писателей Достоевский непосредственно примыкает к Гоголю, особенно в первых своих повестях. Но отношение к человеку у Достоевского существенно иное, чем у Гоголя. Гоголь воспринимает образ человека разложившимся, у него нет людей, вместо людей – странные хари и морды. В этом близко к Гоголю искусство Андрея Белого. Достоевский же целостно воспринимал образ человека, открывал его в самом последнем и падшем. Когда Достоевский стал во весь свой рост и говорил свое творческое новое слово, он уже был вне всех влияний и заимствований, он – единственное, небывалое в мире творческое явление.
«Записки из подполья» разделяют творчество Достоевского на два периода. До «Записок из подполья» Достоевский был еще психологом, хотя с психологией своеобразной, он – гуманист, полный сострадания к «бедным людям», к «униженным и оскорбленным», к героям «мертвого дома». С «Записок из подполья» начинается гениальная идейная диалектика Достоевского. Он уже не только психолог, он – метафизик, он исследует до глубины трагедию человеческого духа. Он уже не гуманист в старом смысле слова, он уже мало общего имеет с Жорж Занд, В. Гюго, Диккенсом и т. п. Он окончательно порвал с гуманизмом Белинского. Если он и гуманист, то гуманизм его совсем новый, трагический. Человек еще более становится в центре его творчества, и судьба человека – исключительный предмет его интереса. Но человек берется не в плоскостном измерении гуманизма, а в измерении глубины, во вновь раскрывающемся духовном мире. Теперь впервые открывается то царство человеческое, которое именуется «достоевщиной». Достоевский окончательно становится трагическим писателем. В нем мучительность русской литературы достигает высшей точки напряжения. Боль о страдальческой судьбе человека и судьбе мира достигает белого каления. У нас никогда не было ренессансного духа и ренессансного творчества. Мы не знали радости своего возрождения. Такова наша горькая судьба. В начале XIX века, в эпоху Александра I, быть может в самую культурную во всей нашей истории, на мгновение блеснуло что-то похожее на возрождение, была явлена опьяняющая радость избыточного творчества в русской поэзии. Таково светозарное, преизбыточное творчество Пушкина. Но быстро угасла эта радость творческого избытка, в самом Пушкине она была отравлена. Великая русская литература XIX века не была продолжением творческого пути Пушкина, – вся она в муках и страдании, в боли о мировом спасении, в ней точно совершается искупление какой-то вины. Скорбный, трагический образ Чаадаева стоит у самого исхода движения созревшей русской мысли XIX века. Лермонтов, Гоголь, Тютчев не в творческой избыточности ренессансного духа творят, они творят в муках и боли, в них нет шипучей игры сил. Потом мы видим изумительное явление Константина Леонтьева, по природе своей человека Возрождения XVI века, забредшего в Россию XIX века, в столь чуждую и противоположную Возрождению, изживающего в ней печальную и страдальческую судьбу. Наконец, вершины русской литературы – Толстой и Достоевский. В них нет ничего ренессансного. Они поражены религиозной болью и мукой, они ищут спасения. Это характерно для русских творцов, это очень национально в них – они ищут спасения, жаждут искупления, болеют о мире. В Достоевском достигает вершины русская литература, и в творчестве его выявляется этот мучительный и религиозно серьезный характер русской литературы. В Достоевском сгущается вся тьма русской жизни, русской судьбы, но в тьме этой засветил свет. Скорбный путь русской литературы, преисполненный религиозной болью, религиозным исканием, должен был привести к Достоевскому. Но в Достоевском совершается уже прорыв в иные миры, виден свет. Трагедия Достоевского, как и всякая истинная трагедия, имеет катарсис, очищение и освобождение. Не видят и не знают Достоевского те, которых он исключительно повергает в мрак, в безысходность, которых он мучит и не радует. Есть великая радость в чтении Достоевского, великое освобождение духа. Это – радость через страдание. Но таков христианский путь. Достоевский возвращает веру в человека, в глубину человека. Этой веры нет в плоском гуманизме. Гуманизм губит человека. Человек возрождается, когда верит в Бога. Вера в человека есть вера во Христа, в Бого-Человека. Через всю жизнь свою Достоевский пронес исключительное, единственное чувство Христа, какую-то исступленную любовь к лику Христа. Во имя Христа, из бесконечной любви к Христу порвал Достоевский с тем гуманистическим миром, пророком которого был Белинский. Вера Достоевского во Христа прошла через горнило всех сомнений и закалена в огне. Он пишет в своей записной книжке: «И в Европе такой силы атеистических выражений нет и не было. Стало быть, не как мальчик же я верую во Христа и Его исповедую. Через большое горнило сомнений моя Осанна прошла». Достоевский потерял юношескую веру в «Шиллера», – этим именем символически обозначал он все «высокое и прекрасное», идеалистический гуманизм. Вера в «Шиллера» не выдержала испытания, вера в Христа выдержала все испытания. Он потерял гуманистическую веру в человека, но остался верен христианской вере в человека, углубил, укрепил и обогатил эту веру. И потому не мог быть Достоевский мрачным, безысходно-пессимистическим писателем. Освобождающий свет есть и в самом темном и мучительном у Достоевского. Это – свет Христов, который и во тьме светит. Достоевский проводит человека через бездны раздвоения, – раздвоение основной мотив Достоевского, но раздвоение не губит окончательно человека. Через Бого-Человека вновь может быть восстановлен человеческий образ.
Достоевский принадлежит к тем писателям, которым удалось раскрыть себя в своем художественном творчестве. В творчестве его отразились все противоречия его духа, все бездонные его глубины. Творчество не было для него, как для многих, прикрытием того, что совершалось в глубине. Он ничего не утаил, и потому ему удалось сделать изумительные открытия о человеке. В судьбе своих героев он рассказывает о своей судьбе, в их сомнениях – о своих сомнениях, в их раздвоениях – о своих раздвоениях, в их преступном опыте – о тайных преступлениях своего духа. Биография Достоевского менее интересна, чем его творчество. Письма Достоевского менее интересны, чем его романы. Он всего себя вложил в свои произведения. И по ним можно изучить его. Поэтому Достоевский менее загадочен, чем многие другие писатели, его легче разгадать, чем, например, Гоголя. Гоголь – один из самых загадочных русских писателей. Он не открывал себя в своем творчестве, он унес с собой тайну своей личности в иной мир. И вряд ли удастся когда-либо ее вполне разгадать. Такой загадкой останется для нас личность Вл. Соловьева. В своих философских и богословских трактатах, в своей публицистке Вл. Соловьев прикрывал, а не открывал себя, в них не отражается противоречивость его природы. Лишь по отдельным стихотворениям можно кое о чем догадаться. Не таков Достоевский. Особенность его гения была такова, что ему удалось до глубины поведать в своем творчестве о собственной судьбе, которая есть вместе с тем мировая судьба человека. Он не скрыл от нас своего содомского идеала, и он же открыл нам вершины своего Мадонского идеала. Поэтому творчество Достоевского есть откровение. Эпилепсия Достоевского не есть поверхностная его болезнь, в ней открываются самые глубины его духа.
Достоевский любил называть себя «почвенником» и исповедовал почвенную идеологию. И это верно лишь в том смысле, что он был и оставался русским человеком, органически связанным с русским народом. Он никогда не отрывался от национальных корней. Но он не походил на славянофилов, он принадлежал уже совершенно другой эпохе. По сравнению со славянофилами Достоевский был русским скитальцем, русским странником по духовным мирам. У него не было своего дома и своей земли, не было уютного гнезда помещичьих усадеб. Он не связан уже ни с какой статикой быта, он весь в динамике, в беспокойстве, весь пронизан токами, идущими от грядущего, весь в революции духа. Он – человек Апокалипсиса. Славянофилы не были еще больны апокалиптической болезнью. Достоевский прежде всего изображал судьбу русского скитальца и отщепенца, и это гораздо характернее для него, чем его почвенность. Это скитальчество он считал характерной русской чертой. Славянофилы же были приземистыми, вросшими в землю людьми, крепкими земле людьми. И сама почва земли была еще под ними твердой и крепкой. Достоевский – подземный человек. Его стихия – огонь, а не земля. Его линия – вихревое движение. И все уже иное у Достоевского, чем у славянофилов. Он по-иному относится к Западной Европе, он – патриот Европы, а не только России, по-иному относится к петровскому периоду русской истории, он писатель петербургского периода, художник Петербурга. Славянофилы были в цельном быту. Достоевский весь уже в раздвоении. Мы еще увидим, как отличаются идеи Достоевского о России от идей славянофилов. Но сразу же хотелось бы установить, что Достоевский – не славянофильской породы. По бытовому облику своему Достоевский был очень типичный русский писатель, литератор, живший своим трудом. Его нельзя мыслить вне литературы. Он жил литературой и духовно и материально. Он ни с чем не был связан, кроме литературы. И он являл своей личностью горькую судьбу русского писателя.
Поистине изумителен ум Достоевского, необычайна острота его ума. Это – один из самых умных писателей мировой литературы. Ум его не только соответствует силе его художественного дара, но, быть может, превосходит его художественный дар. В этом он очень отличается от Л. Толстого, который поражает неповоротливостью, прямолинейностью, почти плоскостью своего ума, не стоящего на высоте