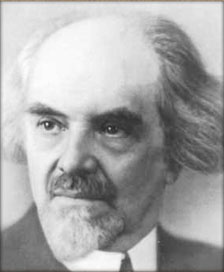Бердяев Николай
Новое христианство
I
[Другой тип] (Одно из течений) русской религиозной мысли можно условно назвать новым религиозным сознанием или неохристианством. Для этого типа характерна не жажда возврата в материнское лоно Церкви, к древним преданиям, а искание новых откровений, обращение вперед. В этом течении религиозной мысли пророчество всегда побеждает священство и пророческим предчувствиям отдаются без особенной осторожности, без той боязни произвола и подмена, которая так характерна для Булгакова, свящ. П. Флоренского, Эрна и др. Настоящего дерзновения религиозной мысли и здесь нет, но меньше оглядки, больше игры человеческой талантливости. Центральной фигурой в этом типе религиозной мысли является Д.С. Мережковский[2]. Целое течение окрашено в цвет мережковщины, принимает его постановку тем, его терминологию, его устроенность. В отличие от Булгакова, более жизненного, с одной стороны, и более умственного — с другой, Мережковский весь вышел из культуры и из литературы.
Он живет в литературных отражениях религиозных тем, не может мыслить о религии и писать о ней иначе, как исходя из явлений литературных, от писателей. Прямо о жизни Мережковский не может писать, не может и думать. Он — литератор до мозга костей, более чем кто-либо. И из литературы, из своей родной стихии, вечно убегает Мережковский к жизни и к сокрытым в ней религиозным тайнам, к действию. Никто так не жаждет преодолеть литературу, как литератор по преимущ\1еству Мережковский, никто так много не говорит о действии. Через Достоевского и Толстого открывает Мережковский конец великой русской литературы, ее неизбежный переход к новому религиозному откровению и новому религиозному действию. И открытый им конец литературы он почувствовал, как наступающий конец мира, как апокалипсис всемирной истории. С тех пор Мережковский ждет конца и все по-новому и по-новому провозглашает конец. Но темы, поставленные великой русской литературой, всегда для него остаются его исходным пунктом, прежде всего и больше всего Толстой и Достоевский. Над душой Мережковского, по-видимому, имеет неотразимую власть пленительность слов и словесных конструкций. Иные слова звучат для него, как откровения. Это откровение всегда вторичное, отраженное. Но нужно сказать, что и сами слова обладают большей реальностью, чем это принято о них думать.
Огромное влияние оказал на Мережковского Розанов, его постановка религиозных тем, его критика христианства. Как ни враждебен сейчас Мережковский Розанову, но и доныне не может он освободиться от обаяния розановской религии плоти и ему импонируют те непосредственные розановские мироощущения, которых нет у него самого. Мережковский некогда провозгласил Розанова русским Ницше. Розанов несомненно предопределил подход Мережковского к христианству, привил ему христианские темы в своей постановке. Розанов органически связан с православным бытом, вышел из него и может мыслить только от него. Он не чувствует веселия духа и подъема, когда нет против него православного священника, нет вокруг него тепла православной плоти. Православная восковая свечечка — родная и близкая Розанову, и он хочет сохранить ее даже в моменты своего антихристова восстания против Христа. Он — церковный человек по своим истокам, и он произносит свою хулу на Христа, неслыханную по дерзости, как свой человек. Это импонирует Мережковскому, такому оторванному от всего церковного, такому далекому от всего православного. Он даже как будто бы впервые знакомится с православием по отрицательной критике Розанова. Он и теперь, после всего длинного своего пути, плохо знает православие и говорит о нем со стороны. Свое религиозное питание и воспитание Мережковский получил на религиозно-философских собраниях, отчеты о которых печатались в «Новом Пути». Там встречался он с представителями православного духовенства, с православными монахами, там слушал вдохновенные речи апокалиптика В.А. Тернавцева, пророчески возвещавшего правду о земле, которая раскроется в хилиазме. На этих религиозно-философских собраниях, которые должны быть признаны очень значительным фактом в нашем религиозно-философском брожении, встречались представители новой культуры с представителями старого православия, и от этой встречи родились новые темы. Вокруг этих религиозно-философских собраний образовалась атмосфера новых религиозных исканий. Но одному Мережковскому удалось создать целую религиозную конструкцию, целую систему неохристианства. Он претворил в своей конструкции и темы Толстого и Достоевского, и религию «плоти» Розанова, и хилиастическую «правду о земле» Тернавцева, и все споры религиозно-философских собраний об отношении христианства к культуре и к земле, и все предчувствия нового откровения. В нем меньше религиозной инициативы, чем у Розанова и Тернавцева, но значение его (было) основное для интересующего нас типа религиозной мысли.
II
Вся религиозная мысль Мережковского вращается в тисках одной схемы, в эстетически для него пленительном противопоставлении полярностей, тезиса и антитезиса, в мистически волнующем его ожидании синтеза, откровения третьей тайны, тайны соединения полярностей[3]. Весь Мережковский в антитезах христианства и язычества, духа и плоти, неба и земли, общественности и личности, Христа и Антихриста и т. д. и т. д. Мысль Мережковского не сложна и не богата. Как мыслитель, он однообразнее и беднее Булгакова. Блестящий литературный талант Мережковского, его дар художественных схематических конструкций, его исключительное умение пользоваться цитатами скрывают бедность и монотонность мысли, маскируют его гностическую неодаренность, его нелюбовь к познанию и его недостаточную философскую подготовку. Он гипнотизирует блестящими словесными антитезами, противоположениями, соединениями и сопоставлениями, которыми и сам загипнотизирован. Романтическая эстетика Мережковского всегда требует крайностей, бездн, полюсов, пределов, последнего и легко впадает в риторичность, для многих неприятную. Мережковский совершенно не выносит переходного, среднего, для него не существует индивидуального, оттенков, множественного в мире. Он одержим пафосом всемирности принудительного универсализма, характерного для латинского духа, для римской идеи. Эту жажду всемирного соединения он получил по-видимому от Достоевского. Весь мир и всю мировую историю Мережковский воспринимает лишь на полюсах, лишь в аспекте Христа и Антихриста. Все многообразие мировой жизни, вся огромная сфера относительного выпадает из его восприятия, не интересует его или насильственно приводится им к полярным безднам. В нем нет и крупицы гетевской мудрости, проникающей в космическую множественность. Мережковский ничему не дает жить самостоятельной жизнью и ничего не считает самоценным. Все обращается в средство для установленных им абсолютных пределов. Отсюда рождается утилитаризм, возвышенно-корыстное отношение к людям, к ценностям, к жизни. Мережковский более насильствен, чем ортодоксальные православные. Он — политик в мистике и мистик в политике по первоначальному своему чувству жизни. Всякое бескорыстное созерцание, всякое интимное творчество ценностей для него невыносимо. Ему совершенно чужда история мистики и гностицизма. Философскими понятиями, философскими терминами он принужден пользоваться, но совершенно безответственно. В религиозной мысли он остается художником-схематиком. По философской культуре, по знанию религиозного и мистического прошлого человечества все течение, связанное с Мережковским, стоит гораздо ниже того типа религиозной мысли, которое я определил бы как возрождение православия. Мережковский влияет преимущественно на тех, которые находятся на первых стадиях религиозного пути и обладают небольшим еще религиозным опытом. Вряд ли возможно его глубокое влияние на людей более религиозно умудренных. Но этим я не хочу отрицать большого значения Мережковского и поставленных им тем.
Вечно стремится Мережковский к синтезу, к третьему, совмещающему тезис и антитезис, к троичности. Все время дает он понять, что в нем заключается третья тайна, выход из двух противоположных тайн, из антитезисов. Все манит Мережковский и соблазняет этой своей тайной, намекает на нее, слегка приоткрывает ее и вновь обволакивает ее туманом, двойственностью, неясностью употребляемых им словосочетаний. Свои тезисы и антитезисы любит Мережковский связывать с писателями или художниками, которых берет парами. Леонардо да Винчи — тезис, Микель-Анжело — антитезис; Достоевский — тезис, Л. Толстой — антитезис; Тютчев — тезис, Некрасов — антитезис и т. д. и т. д. Тайна духа и тайна плоти, тайна неба и тайна земли, тайна личности и тайна общественности, бездна верхняя и бездна нижняя — в этих противопоставлениях протекает все мышление Мережковского. Все и всех подводит он под одну схему, под один трафарет. Образуется клише, посредством которого почти автоматически находится выход из двух безвыходных тайн в третьей тайне, из двух взаимоисключающих антитез в синтезе самого Мережковского. Настоящей энергии творческой мысли в этом не чувствуется. Синтез Мережковского остается чисто ментальным, формальным, схематическим, бессильным. У него есть задание великого синтеза, вечный призыв к тому, чтобы синтез совершился, надрывный крик о синтезе, но нет самого жизненного и познавательного синтеза. Мережковский очень ментален, но то, что он делает, не есть познание. Своей беспомощности и своему бессилию религиозно синтезировать стоящие перед ним антитезы он придает принципиально мистическую окраску. Он остается в вечном двоении, и это двоение — наиболее характерное, наиболее оригинальное в нем. Ему нравится это двоение, это смешение образа Христа и Антихриста, эта неясность в различении подлинного и обманного. Лика и личины, бытия и небытия. {Тайна Мережковского и есть тайна двоения, двоящихся мыслей, а не тайна синтеза, не тайна троичности}. В самом начале своего религиозного пути, когда Мережковский писал свою работу о Толстом и Достоевском, лучшее из всего им написанного, он пытался синтезировать Христа и Антихриста, Богочеловека и человекобога. Но потом почувствовал, что в христианстве, даже новом христианстве, такой синтез невозможен, и стал убегать от антихристова духа в себе самом. Вот уже (много) лет [десять] убегает Мережковский от себя и никак не может убежать. Это, конечно, творчески обессиливает его. Некогда эстетически пленился он цезаризмом, мистическим самодержавием и не может освободиться от этого образа. Борьбу с пленившим его образом он принимает за борьбу с мировым злом. Поставленные Мережковским религиозные темы значительны и велики, они волнуют и тревожат. Но бессилие внутренне разрешить религиозные проблемы, творчески раскрыть новое, небывшее, пророческое приводит Мережковского к вечному ожиданию нового откровения Духа, откровения трансцендентного, а не имманентного, к перенесению центра тяжести вовне. Откровение третьего Завета совершится не имманентно, не из глубины человека, не из творческой его энергии, а трансцендентно, извне, над человеком. Мережковский верит в апокалиптическое разрешение всех нерешенных и неразрешимых христианских проблем. Но эта апокалиптическая религия не есть антропологическое откровение, это — апокалипсис трансцендентный, а не имманентный. И для Мережковского, как и для Булгакова, все трансцендентно, и это литературно выражается в необыкновенной его тенденциозности как художника, мыслителя и публициста. Все у него оказывается заданной со стороны тезой, а не внутренней энергией, не светом из глубины.
III
Мережковский очень пугает ортодоксальных православных своей новой религией третьего Завета. Но в сущности он стоит на той же ортодоксально-догматической почве, что и Булгаков, что и свящ. П. Флоренский и многие другие. Его религиозное сознание должно быть отнесено к трансцендентному типу религиозной мысли. Он принимает экзотерически-догматическое христианство, но с меньшими правами и основаниями, чем Булгаков или Флоренский. Он решительный и крайний религиозный материалист, и своим художественно