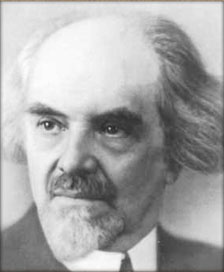человека относительно мира умерших. Замечательно, что древнее чувство мести, терзавшее мстителя, совсем не было инстинктом жестокости и кровожадности, порождением злобы и ненависти, оно было нравственным и религиозным долгом, нравственной эмоцией по преимуществу. Это видно из греческой трагедии. Таков, напр., Орест, весь одержимый нравственным долгом отмстить за смерть отца. Такова и трагедия Гамлета. Но древняя этика мести составляет очень глубокий слой нравственных эмоций человека, и она действует и в современном человеке, прошедшем через христианство. В нравственном различении, оценке, суждении и суде есть элемент трансформированной первобытной мести. «Добрый», сам того не замечая, в сущности, хочет мстить «злому», хотя бы эта месть была совсем не кровавой. Древнее нравственное суждение не считало возможным оставить преступления без наказания, оно страшилось этого. Наказание же и было местью, идея наказания рождалась из мести. Наказывающий есть мститель. Эта идеализация и сублимация мести как религиозного и нравственного долга находит свое метафизическое завершение и увенчание в идее ада. Первобытное нравственное сознание есть сознание родовое и социальное. В нем нравственным субъектом является род, а не личность. И месть, как нравственный акт, есть акт родовой, она совершается родом и по отношению к роду, а не личностью и по отношению к личности. Родовая месть есть самый характерный нравственный феномен древнего человечества, и она остается в христианском человечестве, поскольку древняя природа в нем не просветлена и не преображена. Инстинкт и психология родовой мести, столь противоположные христианству, переходят в своеобразное понимание чести – должно защищать свою честь и честь своего рода с оружием в руках, через пролитие крови. Оскорбление чести должно быть смыто кровью. Род внушает благоговейный ужас. С этим связан и страх кровосмешения, который преследует человека с давних времен. Кровосмешение Эдипа, соединение с матерью было пределом ужаса. В нем человек как бы возвращается туда, откуда изошел, т. е. отрицает факт рождения, восстает против закона родовой жизни. Древняя месть совсем не связана с личной виной. Месть и наказание не направлены прямо на того, кто лично виновен и ответствен. Понятие личной вины и ответственности образовалось гораздо позже. Родовая месть безлична. Когда родовая месть переходит к государству и государство делается субъектом мести и наказания, начинает развиваться идея личной вины и ответственности. Закон, всегда носящий социальный характер, требует победы над первобытным хаосом инстинктов, но хаос инстинктов вгоняется законом внутрь, он не побеждается и не просветляется им. И в человеке XX в. остаются эти первобытные хаотические инстинкты. Это обнаружила мировая война и коммунистическая революция. Месть, которая сначала была нравственным и религиозным долгом, после христианского откровения становится безнравственным, хаотическим инстинктом человека, который он должен побеждать новым законом. Древнее насилие клана и рода над человеком, установившее неисчислимое количество табу, запретов и вызывающее страхи и ужасы, из нравственного закона, каким оно было в древние времена, переходит в атавистические инстинкты, с которыми должно бороться более высокое нравственное сознание. Это одна из существенных истин социальной этики. Общество изначально смиряет, обуздывает, дисциплинирует инстинкты человека, и потом то, что оно вложило в человека для его обуздания, превращается в хаотические инстинкты на более высоких ступенях нравственного сознания. Так прежде всего происходило с местью. Человека лишали свободы, как существо, одержимое греховными инстинктами. Но социальное обуздание свободы обратилось в инстинкт властолюбия и тирании. Предрассудки, инерция и насилия каст, пережитки древнего общественного быта некогда были обузданием хаоса, установлением общественного космоса, но они превратились в инстинкты, мешающие свободному социальному устроению человечества. Обнаруживается коренная двойственность закона в нравственной жизни человечества – он обуздывает инстинкты и создает порядок, и он же вызывает инстинкты, мешающие созданию нового порядка. Это обнаруживает бессилие закона.
Первобытная жизнь не только социальна, но и коммунистична.[74] И этот первобытный коммунизм – источник деспотических инстинктов в человеческом обществе. Первоначальные нравственные эмоции народились в эпоху господства рода над индивидуумом. И от этих инстинктов родовой морали человек не может освободиться и доныне. Нравственные понятия начали вырабатываться, когда личность еще не раскрылась, дремала в потенциальном состоянии. И нравственная жизнь человека и ныне еще раздирается между нравственными понятиями и оценками, образовавшимися, когда господствовал род и был субъектом нравственной жизни, и нравственными понятиями и оценками, образовавшимися, когда поднялась личность и стала субъектом нравственной жизни. Табу было основной категорией законнической и родовой этики, и это древнее табу сохранилось, когда личная совесть стала источником оценки. Первоначальная нравственность строилась под давлением ужаса перед душами умерших, она определялась не только отношением к людям, но и отношением к богам и полубогам, к демонам и духам. Царь был богом, тотемом. И в этом источник благоговейных чувств к монарху, которые сохранились и до наших дней. Этим определилась монархическая мораль. Жестокость в первобытном обществе носила характер не только звериного, природного хаоса инстинктов, но получила нравственную санкцию и была связана с нравственными эмоциями. И на протяжении всей истории человек бывал жесток в силу нравственной эмоции и нравственного долга. И освобождение его от инстинкта жестокости сплошь и рядом означает освобождение от нравственной эмоции и нравственного долга, возникших в предшествующие эпохи. Нет ничего более тяжелого в жизни, чем атавизм нравственных инстинктов, связанных с нравственными эмоциями древних эпох. Они-то и калечат более всего жизнь. Этика закона обладает способностью создавать такого рода атавизм. Главы государств, иерархи церквей, отцы семейств, хозяева предприятий бывают нередко жестоки не от кровожадности и склонности к насилию и мучительству, а от атавистических нравственных эмоций, от чувства долга, терзающего их самих. Этика закона, выработанная в эпоху абсолютного господства рода и общества над личностью, терзает личность и тогда, когда уже пробудилась личная совесть и в нее перенесен центр тяжести нравственной жизни. Очень силен также элемент магии в первобытном нравственном сознании. Через магию боролся человек с враждебными силами, в ней родилась активность человека, наука, техника. И магия была силой в высшей степени социальной. Власть в мире народилась прежде всего как власть магическая,[75] и отношения властвования – магические отношения. Магия по природе своей повелительна. Власть нравственного закона и его запреты первоначально были магической властью. Эти магические элементы власти остались в силе на протяжении всей истории, и от них не свободен человек и доныне, несмотря на христианство, на идею нравственной ответственности и пр. Различение нравственно чистого и нечистого носит магический характер. Люди верят в нравственную магию слова. Они суеверно боятся прикоснуться к нравственному табу. Их терзают угрызения совести, не имеющие никакого отношения к их личной совести и личной вине. Над ними тяготит магия проклятий и осуждений. И они думают, что их нравственные действия и нравственные слова имеют власть над Богом и над судьбой. Нравственный акт был сначала как бы формой оперативной магии. Люди верили в магические исполнения нравственных заповедей и обрядов. Это унаследовано и современными людьми от первобытного народного магизма. Философы и моралисты, Сократ и стоики, Кант и Толстой пытались очистить нравственный закон от элементов магических. Но «добрые дела» этики закона заключают в себе переживания элементов первобытного магизма.[76]
3. Социальный и обыденный характер закона. Этика закона есть этика социальной обыденности. Она организует жизнь среднего человека, человеческих масс, и от нее совершенно ускользает качественно возвышающаяся творческая человеческая индивидуальность. Для этики закона существует личность абстрактная, но не существует личности конкретной. Мораль закона и есть мораль общеобязательная. Обыденность, для которой Гейдеггер образовал особую категорию das Man, носит социальный характер. Это есть господство общества и общего с его законами и нормами над внутренней, интимно-индивидуальной и неповторимой в своем своеобразии жизнью личности. Обыденность (man sagt, on dit, говорят) есть охлаждение творческого огня жизни, и нравственное сознание в обыденности всегда определяется не тем, что думает сама личность, а тем, что думают другие, не своей совестью, а чужой совестью. Законнический морализм всегда социален, а не персоналистичен. Личность, личная совесть, личная мысль не может быть носителем закона, носителем закона является общество, общественная совесть, общественная мысль. В автономной, но законнической этике Канта носителем нравственного закона, правда, является личность, а не общество. Но сам нравственный закон, который личность должна свободно в себе раскрыть, определяется обществом, он общеобязателен, а общеобязательность всегда носит социальный характер.[77] Закон нравственный, как и закон логический, совершенно обязателен для всякого живого существа независимо от его индивидуальности и своеобразия. Никакой индивидуальности и своеобразия закон не признает. Для нравственного закона совсем неинтересен нравственный индивидуальный опыт, нравственные борения духа. Мы видим у Канта совершенное равнодушие к нравственному опыту и нравственной борьбе. Закон интересуется только тем, исполнит ли его личность или нет. И Коген, который строит этику закона, совершенно последовательно связывает ее с юриспруденцией. Этика закона организует социальную обыденность. Она интересуется только общеобязательным. Таковы роковые последствия законнического различения добра и зла. Последствием этого является тиранство закона, которое есть тиранство общества над личностью, общеобязательной идеи над индивидуальным, личным, неповторимым, единичным. Отстоявшаяся и кристаллизировавшаяся обыденность, в которой охлажден уже огонь жизни, давит, как кошмар, творческую жизнь личности. Закон насилует и калечит жизнь. И настоящий трагизм этики в том, что закон имеет свою положительную миссию в мире. Этика закона не может быть просто отвергнута и отброшена. Если бы это было возможно, то никакого принципиального трагизма тут не было бы. Этика закона должна быть преодолена, творческая жизнь личности должна быть завоевана. Но и закон имеет свое положительное значение. Он не только калечит личную жизнь, но и охраняет ее. Парадокс в том, что исключительное господство этики благодати в мире греховном подвергает опасности свободу и даже существование личности. Нельзя поставить судьбу личности в исключительную зависимость от благодатных и благостных состояний других личностей. В этом значение права, которое есть царство закона. Никакая личность не может зависеть от нравственных качеств и духовного совершенства, присущего окружающим ее людям. В мире греховном личность частью своего существа обречена жить в социальной обыденности, в которой она не только насилуется, но и охраняется законом и правом. Право и есть правда, преломленная в социальной обыденности. Царство обыденности, das Man, есть порождение грехопадения, есть мир падший. В нем роковым образом искалечивается жизнь личности, в нем извращается даже само христианское откровение. Первичное зло тут не в самом законе, изобличающем грех, а в грехе, порождающем закон. Но закон, изобличающий грех и ставящий предел проявлениям греха, обладает способностью вырождаться в зло.
В этом сложность судеб этики закона. Уже греческая этика, начиная с Сократа, пыталась эмансипироваться от власти общества и закона, пыталась проникнуть в личную совесть. Нравственное сознание Сократа сталкивается с афинской демократией.