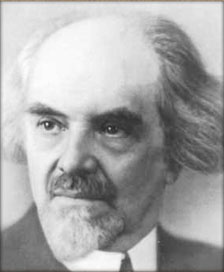нем была динамика в направлении наибольшего сопротивления природе. Но ныне Исаак Сирианин, святой, великий и вечный, может стать для нас источником смерти. Подвижничество было подвижно, ныне стало оно бездвижно и может быть названо бездвижничеством. Ныне мир идет к новым формам аскетической дисциплины113. Старый опыт смирения и послушания переродился в зло. И неизбежно вступление на религиозный путь непослушания миру и злу мира, когда в плодах послушания чувствуется дух смерти, трупный яд. Не со смиренным послушанием должен обратиться человек к миру, а с творческой активностью. Сам опыт богообщения переходит в мир как акт творчества. Ибо революционная аскетика превратилась в консервативное охранение. У Феофана Затворника, который в XIX веке идет за Исааком Сирианином и реставрирует его, в центре уже не мистика противления ветхой природе, не переход в иную жизнь, а прежде всего послушание последствиям греха, а оправдание того, что есть, и охранение всех форм этой жизни. Из безумной аскетической мистики вывели охранительное жизнеустройство, поддержание ветхих устоев этой жизни, жизни «мира сего»114. Почти непостижимо, какими путями аскетическая мистика переродилась в это консервативное, косное жизнеустроение «мира сего». Дух творческий окончательно признается грехом. Само христианство, некогда молодое, новое, революционное, стало дряхлым и ветхим. Предание, которое некогда творилось, было творческой динамикой, превратилось во внешний авторитет, омертвело, закостенело. То, что для других было жизнью, для нас стало мертвой формулой, внешне нам навязанной. Новый Завет переродился в религию книжников и фарисеев. Христианство так же мертвеет и костенеет перед творческой религиозной эпохой, как мертвел и костенел Ветхий Завет перед явлением Христа. Сами призывы к покаянию уже не плодоносны, уже нет в них жизни.
Христианство наше уже не молодо — ему скоро 2000 лет. Церковь христианская стара. Нельзя измерять христианства индивидуальным возрастом человека, его индивидуальными заслугами, степенью его победы над грехом. Каждый из нас христианин не 30 или 40 лет, не 5 лет, если считать время нашего индивидуального обращения, а 2000 лет. Каждый из нас получает мировой религиозный опыт христианства. Есть в христианстве мировые времена и сроки. Безумно было бы исчислять христианский возраст нашей кратковременной жизнью. Мировой возраст христианства, мировые времена и сроки религиозного откровения не зависят от моих личных заслуг в борьбе с грехом. Мне больше может открыться не потому, что я лучше, религиозно совершеннее, безгрешнее, чем тот, кто жил 1000 лет тому назад, а потому, что я живу в другие времена и сроки, потому что христианство ныне универсально более созрело. Взрослый не лучше младенца, не безгрешнее, но открывается ему больше. Лишь индивидуалистическое сознание измеряет возраст христианства возрастом индивидуальным. Ставить ступени откровения в исключительную зависимость от ступеней индивидуального восхождения значит исповедовать религиозный индивидуализм. Индивидуализм этот вступает в конфликт с самой идеей церкви как универсального организма, обладающего сверхличной жизнью. Есть религиозный возраст не только человека как индивидуального организма, но и церкви как универсального организма. И вот ныне универсальный организм церкви вступает в двухтысячелетний возраст и переживает кризис, связанный с мировыми временами и сроками. Не только индивидуальное совершенство в борьбе с грехом, но даже индивидуальная святость бессильна перед этим мировым кризисом возраста, перед этим вступлением в иную космическую эпоху, в иную стадию откровения. Иная стадия откровения, иная космическая эпоха совсем не связана с большей святостью человека, как думает религиозный индивидуализм. Святости прежде было больше, чем теперь. Ныне оскудела святость в мире, человечество как бы лишилось дара святости. И, если от личной святости ждать нового откровения, религиозного возрождения, то положение человечества безнадежно, трагически-безнадежно. Христианство как новозаветное откровение искупления дряхлеет. Христианская кровь холодеет, и тщетно пытаются ее подогреть всякими реставрациями. Нельзя искусственно возродить молодость. А христианская святость связана с молодостью христианства. В христианской святости есть вечная, неумирающая истина, но истина неполная, в которой не все открылось. Одна старая и вечная христианская святость бессильна перевести человека в творческую мировую эпоху. Каждый из нас плохой христианин, не научившийся еще как следует крестить лоб, не стяжавший себе почти никаких даров, универсально живет уже в иной религиозной эпохе, чем величайшие святые былой эпохи, и потому не может просто начинать с начала христианскую жизнь. Каждый из нас получает двухтысячелетнее христианство, и этим налагается на нас бремя мировой ответственности. На нас лежит ответственность мирового возраста христианства, а не личного нашего возраста.
В этом сплетении и смешении двух религиозных возрастов, личного и мирового, лежит корень запутанности и смутности нашей христианской жизни, ее болезненности и ее кризиса. Чисто индивидуалистическое понимание нынешнего возраста христианства — источник религиозной реакции и омертвения. Универсальное понимание этого возраста зовет к творчеству и возрождению. Для индивидуалистического сознания нет мировых стадий и эпох откровения, а потому и нет предчувствия новой мировой эпохи. Это омертвевшее индивидуалистическое христианское сознание переживает состояние болезненной подавленности и бессилия. Старохристианское сознание, боязливо закрывающее глаза на религиозный возраст человека, обязывающий к дерзновению творчества, обречено на изнывание от того, что нет ныне той святости, какая была в прежнем, молодом еще христианстве. Бессильная зависть к религиозной жизни прошлого гложет современных христиан. И эта постоянная подавленность духа парализует творчество, рождает лишь религиозную трусость. Недостойно это вечное изнывание от своего бессилия быть святым. От этого нимало не прибавится святости. За омертвение христианской жизни ныне ответственны не худшие из православных, а лучшие из них. Быть может, всего ответственнее старцы. И нельзя возложиться во всем на святых — нужно самим действовать. Старохристианское, индивидуалистическое сознание не хочет знать того глубокого кризиса антропологической стихии, который совершается на протяжении всей новой истории. Лучший из современных старцев не в силах ответить на муку Нитцше: он ответит ему лишь изобличением греха. Также не ответит на муку героев Достоевского. Новый человек рождается в муках, он проходит через бездны, неведомые старой святости. Мы стоим перед новым осознанием отношения святости и гениальности, искупления и творчества.
В начале XIX века жил величайший русский гений — Пушкин и величайший русский святой — Серафим Саровский. Пушкин и св. Серафим жили в разных мирах, не знали друг друга, никогда ни в чем не соприкасались. Равно достойное величие святости и величие гениальности — несопоставимы, несоизмеримы, точно принадлежат к разным бытиям. Русская душа одинаково может гордиться и гением Пушкина, и святостью Серафима. И одинаково обеднела бы она и от того, что у нее отняли бы Пушкина, и от того, что отняли бы Серафима. И вот я спрашиваю: для судьбы России, для судьбы мира, для целей Промысла Божьего лучше ли было бы, если бы в России в начале XIX века жили не великий святой Серафим и великий гений Пушкин, а два Серафима, два святых — святой Серафим в губернии Тамбовской и святой Александр в губернии Псковской? Если бы Александр Пушкин был святым, подобным св. Серафиму, он не был бы гением, не был бы поэтом, не был бы творцом. Но религиозное сознание, признающее святость, подобную Серафимовой, единственным путем восхождения, должно признать гениальность, подобную пушкинской, лишенной религиозной ценности, несовершенством и грехом. Лишь по религиозной немощи своей, по греху своему и несовершенству был Пушкин гениальным поэтом, а не святым, подобным Серафиму. Лучше было бы для божественных целей, чтобы в России жили два святых, а не один святой и один гений-поэт. Дело Пушкина не может быть религиозно оценено, ибо гениальность не признается путем духовного восхождения, творчество гения не считается религиозным деланием. «Мирское» делание Пушкина не может быть сравниваемо с «духовным» делением св. Серафима. В лучшем случае, творческое дело Пушкина допускается и оправдывается религиозным сознанием, но не опознают в нем дела религиозного. Лучше и Пушкину было бы быть подобным Серафиму, уйти от мира в монастырь, вступить на путь аскетического духовного подвига. Россия в этом случае лишилась бы величайшего своего гения, обеднела бы творчеством, но творчество гения есть лишь обратная сторона греха и религиозной немощи30. Так думают отцы и учителя религии искупления. Для дела искупления не нужно творчества, не нужно гениальности — нужна лишь святость. Святой творит самого себя, иное, более совершенное в себе бытие. Гений творит великие произведения, совершает великие дела в мире. Лишь творчество самого себя спасает. Творчество великих ценностей может губить. Св. Серафим ничего не творил, кроме самого себя, и этим лишь преображал мир. Пушкин творил великое, безмерно ценное для России и для мира, но себя не творил. В творчестве гения есть как бы жертва собой. Делание святого есть прежде всего самоустроение. Пушкин как бы губил свою душу в своем гениально-творческом исхождении из себя. Серафим спасал свою душу духовным деланием в себе. Путь личного очищения и восхождения (в иогизме, в христианской аскетике, в толстовстве, в оккультизме) может быть враждебен творчеству.
И вот рождается вопрос: в жертве гения, в его творческом исступлении нет ли иной святости перед Богом, иного религиозного делания, равнодостойного канонической святости? Я верю глубоко, что гениальность Пушкина, перед людьми как бы губившая его душу, перед Богом равна святости Серафима, спасавшей его душу. Гениальность есть иной религиозный путь, равноценный и равнодостойный пути святости. Творчество гения есть не «мирское», а «духовное» делание. Благословенно то, что жил у нас святой Серафим и гений Пушкин, а не два святых. Для божественных целей мира гениальность Пушкина так же нужна, как и святость Серафима. И горе, если бы не был нам дан свыше гений Пушкина, и несколько святых не могло бы в этом горе утешить. С одной святостью Серафима без гения Пушкина не достигается творческая цель мира. Не только не все могут быть святыми, но и не все должны быть святыми, не все предназначены Богом к святости. Святость есть избрание и назначение. В святости есть призвание. И религиозно не должен вступать на путь святости тот, кто не призван и не предназначен. Религиозным преступлением перед Богом и миром было бы, если бы Пушкин, в бессильных потугах стать святым, перестал творить, не писал бы стихов. Идея призвания по существу своему идея религиозная, а не «мирская», и исполнение призвания есть религиозный долг31. Тот, кто не исполняет своего призвания, кто зарывает в землю дары, совершает тяжкий грех перед Богом. К пути гениальности человек бывает так же избран и предназначен, как и к пути святости. Есть обреченность гениальности, как и обреченность святости. Пушкин был обреченным гением-творцом, и он не только не мог быть святым, но и не должен, не смел им быть. В творческой гениальности Пушкина накоплялся опыт творческой