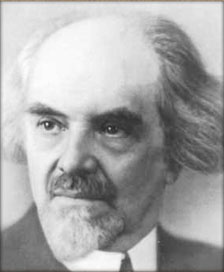провозвестники грядущей мировой эпохи творчества. Но корнями своими символисты еще входят в эпоху искупления.
Я не знаю явления более благородного, внутренно более трагического и по-своему героического, чем писатели-католики Франции XIX века, католики совсем особые, не официальные, не приспособленные к католическому «миру сему». Я говорю о Барбе д’Оревили, Э.Гелло, Вилье де Лиль-Адане, Верлене, Гюисмансе, Леоне Блуа. Эти «реакционеры», в большинстве случаев эстетические роялисты, клерикалы и аристократы, ненавидели священной ненавистью буржуазный мир XIX века. Они были людьми нового духа, трепетавшего под реставрационными одеждами. Это реакционеры-революционеры, ни к чему не приспособленные, вся жизнь которых прошла в бедности, непризнании и неудаче. Люди эти не шли ни на какие компромиссы с буржуазным духом, любили лишь мечту свою и ей жертвенно отдавали всю свою жизнь. Биографии этих людей потрясают своим трагизмом, своим своеобразным героизмом161. Красота, которой они жили, всегда была для них миром иным, во всем противоположным уродству ненавистного «мира сего». Сама «реакционность» их была бунтом, а не приспособлением. У этих людей не было никаких надежд на земное устроение и благоденствие. Дух их выбрасывал их за границы этого мира. Этот мир вызывал в них брезгливое отвращение162. Как противоположен этот благородный, подлинно аристократический дух буржуазному модернизму, играющему в самодовольное язычество! Искусство новых французов-католиков, всеми отвергнутых и непризнанных, — последние, поздние цветы мировой эпохи искупления. Их красота — все еще красота искупления. Эти усталые души искупительные жертвы за грехи мира буржуазного, мира сего, предавшего благородство. Тут душа католическая истончается до потери всех контуров этого мира, всей тяжести обмирщенного католичества. Но творческого дерзновения новой мировой эпохи нет ни в чудесных рассказах Вилье де Лиль-Адана, ни в стихах Верлена, ни в злом гневе Л.Блуа против буржуазного мира. Души эти стоят на грани двух миров, в них неосознанно трепещет грядущее, в которое они не верят, но путь их есть жертвенное заклание и они бессильны творить новую жизнь. Новый символизм во Франции имеет глубокую связь с католичеством. И выше этих последних католиков, в себя принявших всю красоту искупления, жертвенно-благородных и бессильно-героических, стоят только Нитцше, Ибсен, Достоевский.
Глубокий кризис искусства чувствуется также в живописи последних дней, в кубизме, в футуризме. Как ни искажено искусство сегодняшнего дня рекламой и шарлатанством, но за всей этой накипью скрыто что-то более глубокое. Кубизм Пикассо — явление очень значительное и волнующее. В картинах Пикассо чувствуется настоящая жуть распластования, дематериализации, декристаллизации мира, распыление плоти мира, срывание всех покровов. После Пикассо, испытавшего в живописи космический ветер, нет уже возврата к старой воплощенной красоте37.
Новое искусство, новый символизм ценны и значительны, прежде всего, как мировой кризис искусства, как показатель кризиса всей культуры. То, что враги назвали декадентством, связано с этим великим кризисом человеческого творчества. Художественные достижения нового искусства не так велики, как его искания и муки. Новое искусство — переходное по существу, оно — мост к иному творчеству. Искусство подошло к такому глубокому кризису, какого еще не знает история культуры. Глубочайшая революция человеческого творчества отпечатлевается на мучительных исканиях искусства. Такой революции творчества не знала и эпоха появления в мире христианства. Христианство не было творческой революцией в мире, христианство было революцией искупления. В искусстве катакомб было принято античное искусство, творчество осталось у христиан языческим. Позже христианство внесло в искусство томление по трансцендентному, но и тогда искусство оставалось в пределах земных достижений художественных ценностей, хотя бы и не завершенных. Ныне ставится глубоко революционный вопрос о невозможности уже искусства как культурной ценности. Творческий художественный акт переливается из культуры в бытие. Символизм есть уже неудовлетворенность культурой, нежелание остаться в культуре, путь к бытию. Мы живем при наступлении конца серединного человеческого искусства, культурного искусства. Это явление более глубокое, чем кризис канонического искусства, это кризис всякого искусства как дифференцированной ценности культуры, перелив творческой энергии на иной путь. Классически прекрасного искусства уже нет, оно невозможно уже. Искусство Достоевского, Л.Толстого, Ибсена, Бодлера, Верлена не есть классически прекрасное искусство, не есть каноническое искусство. Современный академизм в искусстве всегда мертвен и уже не прекрасен. Возврата нет к дореволюционной эпохе в искусстве. Гетевское искусство, как и все гетевское чувство жизни, для нас навеки потерянный рай. Мертвенно-реакционна всякая попытка вернуться к Гете. Катастрофическое чувство жизни отпечатлелось на нашем искусстве и не допускает возврата к гетевскому идеалу. Гете был гением и был символистом, но искусство его все еще было человечески-серединным, культурным, было задержкой в границах. Гете не знал еще того катастрофического чувства жизни, которое не допускает задержки на серединных ценностях, не допускает приспособления к длительным перспективам жизнеустроения. Ныне идеал Гете задерживает в середине, мешает выявлению конца. Гетеанство — консервативный лозунг. Ныне в творчестве выявляются концы, пределы. Пророчество о новом бытии ищет себе выхода в творческом акте новой души. Все каноническое, классическое, культурно-дифференцированное, все серединное, приспособленное к «миру сему», все гетевское, кантовское — ставит консервативные, задерживающие преграды пророческому творческому духу. Возврат к каноническим, классическим идеалам культуры может быть лишь временной реакцией усталости и бессилия. Творческому катастрофизму Достоевского, Нитцше и подлинных символистов принадлежит будущее. Искусство все еще было приспособлением к «миру сему», и творческий катастрофизм должен прийти к жертвенному отрицанию искусства, но через искусство и внутри самого искусства. Жертва культурой во имя высшего бытия будет сверхкультурной, а не докультурной и внекультурной, она оправдает высший смысл культуры и искусства как великого ее проявления.
Новый эстетизм не был академическим, классическим искусством для искусства. Эстетизм стремился стать новой религией, выходом из этого уродливого мира в мир красоты. Эстетизм хотел быть всем, быть другой жизнью, он переливался за границы искусства, он жаждал претворения бытия в искусство, отрешения от бытия, жертвы жизнью этого мира во имя красоты. В религии эстетизма был свои аскетизм, свое подвижничество. Таков был эстетизм Гюисманса. Гюисманс — подвижник и пустынножитель эстетизма, отрешенный от жизни мира сего. Таков эстетизм лучших французских символистов с их жертвенной судьбой. Но эстетизм не верит в реальное претворение; преображение этого мира, в уродстве лежащего, в истинный мир красоты, в красоту как сущее. В религии эстетизма красота противоположна сущему, она вне бытия. Эстетизм бессилен творить красоту как последнюю и наиреальнейшую сущность мира. Эстетизм — не теургичен. В этой призрачности, в этом антиреализме — глубокая трагедия эстетизма, в этом семя его смерти. Эстетизм уходит в мир призрачный, в красоту как не сущее, от уродства сущего. Если бы эстетизм творчески достиг последней красоты сущего, он бы спас мир. Ибо красота мир спасет, по словам Достоевского. В подлинном, благородном, аристократическом эстетизме была религиозная тоска. Тоска Гюисманса не утолилась «утонченной Фиваидой» эстетизма — он переходит от эстетизма к католической мистике, кончает монастырем и жизнью своей вскрывает религиозные глубины эстетизма. В мистическое католичество идут лучшие французские эстеты, чуждые модернизму буржуазному и декадентству самодовольному. Но если, с одной стороны, эстетизм подходит к религиозным безднам, то, с другой — он вырождается в буржуазный модернизм, в эстетическое гурманство, в Реми-де-гурмонство163 38, в салонный академизм. От этого пути идет запах разложения. На этом пути духовной смерти пытаются спасти искусство возвратом к идеалам классически-каноническим, к академизму, парнасизму, чистому аполлонизму. Мировое и творческое значение осталось лишь за тем эстетизмом, который привел к религиозным безднам.
Эстетизм обострил до крайности неудовлетворенность уродством жизни, невозможность дальше жить в этом уродстве. Как ни выродился эстетизм, породив новую пошлость и новое уродство буржуазного модернизма, он что-то коренным образом изменил в чувстве жизни, отрезал всякий возврат к прежним приспособлениям к уродству жизни. Навеки утверждена автономность красоты, ее несводимость на добро и истину, ее самостоятельное место в божественной жизни. Будничная проза жизни — не только последствие греха, она — грех, послушание ей — зло. Праздничная поэзия жизни — долг человека, во имя которого должны быть принесены жертвы жизнью обыденной, ее благами и ее спокойствием. Красота — не только цель искусства, но и цель жизни. И цель последняя — не красота как культурная ценность, а красота как сущее, т.е. претворение хаотического уродства мира в красоту космоса. Символизм и эстетизм с небывалой остротой поставили задачу претворения жизни в красоту. И если иллюзорна цель превращения жизни в искусство, то цель претворения жизни этого мира в бытийственную красоту, в красоту сущего, космоса мистически реальна. Космос и есть красота как сущее. Космическая красота цель мирового процесса, это иное, высшее бытие, бытие творимое. Природа красоты — онтологическая и космическая. Но все определения красоты формальны и частичны. Красота в своей последней сущности — неопределима, красота — великая тайна. В тайну красоты должно быть посвященным, и вне посвящения она не может быть познана. В красоте нужно жить, чтобы узнать ее. Вот почему так досадно не удовлетворяют все внешние и формальные определения красоты164. Но последняя реальность красоты доступна нам в этом мире лишь символически, лишь в форме символа. Реалистическое обладание сущей красотой, без посредства символа будет уже началом преображения этого мира в новое небо и новую землю. Тогда не будет уже искусства, не будет уже в строгом смысле слова эстетического переживания, в котором символически опосредствовается последнее сущее. Путь к красоте как сущему, к космосу, к новому небу и новой земле есть путь религиозно-творческий. Это — вступление в новую мировую жизнь. Жить в красоте — заповедь новой творческой эпохи. Творец ждет от творения красоты не менее, чем добра. За неисполнение заповеди красоты возможны адские муки. Императив творить красоту во всем и везде, в каждом акте жизни, начинает новую мировую эпоху, эпоху Духа, эпоху любви и свободы. В этом императиве есть подлинный, небесный аристократизм, подлинный иерархизм, не буржуазный иерархизм этого мира. Всякий творческий художественный акт есть выход из этого мира, преодоление уродства мира. Но в эпоху религиозно-творческую он будет создавать новый космос. В этом религиозный смысл кризиса искусства, кризиса культуры. Отрицательный, не творческий бунт против старого, прекрасного, чистого искусства бессилен и бесплоден, этот бунт легко превращается в варварский нигилизм Бунт создает лишь анархию. Так же бессилен и бесплоден отрицательный бунт против чистой науки. Искусство, как и вся культура, должно быть внутренно изжито человеком. Творческий кризис искусства должен быть имманентным и сверхкультурным, а не варварским и некультурным. Ценности культуры священны, и всякий нигилизм по отношению к ним безбожен. В искусстве, как и в науке, все еще живет праведность закона и искупления. Возможно лишь имманентно-творческое, а не внешне-нигилистическое преодоление искусства и науки, как и всей