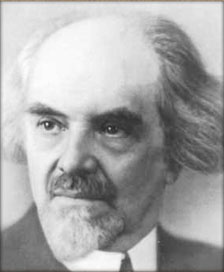сверхличного (в нем нет и признания реальности личного). Марксистская общественность возникает уже после греха индивидуалистического отъединения. Крайний социологизм марксизма есть лишь одно из выражений крайнего индивидуализма. Такой социологизм невозможен для внутренно соединенных. Марксизм говорит о том, как соединиться из жизненной необходимости в общество тем атомам, которые чужды друг другу и ненавидят друг друга. Индивидуалистическая отчужденность и разъединенность лежит в основе всякой «политики», всякой «общественности» нашей эпохи. Мы слишком общественны потому, что слишком отъединены и отчуждены друг от друга. Такая отъединенность и отчужденность создает необходимость крайней общественности, крайнего социологизма сознания. Социологизм есть лишь выражение нашего рабства, нашего приспособления к природной необходимости. В этом социологизме нет ничего свободного и творческого. В господстве «общественности» над современным сознанием есть что-то давящее, как кошмар. Эта внешняя «общественность» закрывает и угашает все подлинные, последние реальности. Все подлинные, последние ценности подменяются ложными и внешними ценностями «общественности». Общественное, социологическое мирочувствие и мировоззрение современности отрицает реальность человека и реальность космоса, в нем отражается распыление как человека, так и космоса. В сущности, социологизм42 всегда есть позитивизм. Социологизм отрицает микрокосмичность человека, он есть результат отрывания от космоса, ложного индивидуализма. Ограниченное сознание позитивизма все ведь покоится на разрыве человека и космоса, на отъединении человека и приобщении его к отъединенному, на утере сознания реальности человека и космоса. Социологический позитивизм есть крайнее выражение некосмического состояния человека, отъединения человека от мира и исключительной поглощенности возникшими на почве этой отъединенности человеческими отношениями. Индивидуализму метафизически противоположен универсализм, космизм. Это — органическое противоположение. Самосознание человека как микрокосма, сознание органической принадлежности человека к космической иерархии — вот сознание, исключающее всякий индивидуализм и отъединенность. Общественность есть лишь частный случай универсализма, лишь одно из выражений космической общности людей. И вся острота проблемы общественности совсем не в том, нужно ли идти от общества или от личности и за чем нужно признать первенство. Вся острота проблемы в том, что нужно и общество и личность принять онтологически-космически. Господствующая теперь «социальность» сознания закрывает творческую тайну общения, ибо отрицает, не хочет знать космическую природу человека и общества, отрывается от органических корней общения. Человек, уединенный в исключительно человеческом и исключительно человеческих отношениях, не может знать тайн общения. Человек позитивно-социологического сознания не знает себя и своих, не знает мира и своей связи с миром172. Вся «политика», общественная практика нашего мира совсем не сознает своей природы, мнит себя свободным творчеством или стремлением к свободному творчеству. Но природа «политики», общественной практики этого мира всего менее творческая и свободная, она возникает из злой необходимости и является послушанием последствиям зла. Коренная ложь всякой «политики» в том, что она выдает себя за творчество нового общения, в то время как она есть лишь выражение старой разобщенности, некосмичности мира, приспособление к злой необходимости. «Политика», в сущности, всегда обращена назад, всегда есть реакция приспособления. И всякая политика мира сего, реакционная и революционная, либеральная и радикальная, есть послушание, а не творчество. «Политика» не реальна в последнем, метафизическом смысле этого слова и не радикальна, не затрагивает корней бытия. «Политика» остается на поверхности и создает призрачное бытие. «Политика» входит в общую культуру, но она не есть путь к новому миру, к новой жизни. И «политика» приходит к мировому кризису, подобно всей культуре. В социализме, в анархизме, в исканиях общественности религиозной совершается мировой кризис «политики», потрясение всякой общественности «мира сего», общественности по необходимости. Но это не значит, конечно, что политика не нужна.
Все основные элементы общественности, несмотря на претерпеваемую ими в истории эволюцию, — ветхи. Всякое государство, право, хозяйство — ветхо по существу, принадлежит к царству закона, послушно необходимости, религиозно пребывает все еще в Ветхом Завете и язычестве. Хозяйственно-государственно-правовая общественность, консервативная, либеральная или революционная, феодальная, буржуазная или социалистическая, — всегда общественность по необходимости, а не по свободе, всегда приспособление, а не творчество, всегда — ветхая общественность. То же приспособление к злой необходимости есть и в абсолютной монархии, и в социалистической республике, то же отсутствие общения в Духе, общения творчески свободного, то же послушание бремени закона, изобличающего грех. В той же плоскости остается и анархизм — он механически бунтует против всякого закона, справедливо изобличающего грех, оставляет в грехе не искупленном и в эпохе не творческой. Всякий правовой строй есть узаконенное недоверие человека к человеку, вечное опасение, вечное ожидание удара из-за угла. Государственно-правовое существование есть существование враждующих. Всякое хозяйство есть тяжелая забота, труд в поте лица, библейское проклятие. Хозяйственный труд, как и всякий труд, не есть еще творчество и предполагает несение послушания последствиям греха173. В заботе, опасении и трудовом поте хозяйства, права и государства нет даровой благодати любви. Новый Завет не знает ни государства, ни права, ни хозяйства. Эти ветхие элементы общественности «мира сего» создались вне новозаветного откровения. И Новый Завет не открыл новых, своих элементов общественности. Новозаветное христианство оправдывает государство, право, хозяйство не как откровение нового общения в Духе, а как послушание последствиям греха, т.е. оправдывает ветхую общественность ветхозаветно, тем, что закон нужен еще и все еще должен изобличать грех. Что начальствующий носит меч не напрасно, это истина ветхозаветная, а не новозаветная, но подтвержденная Новым Заветом для ветхого, греховного мира. Само же Евангелие проповедует свободу от вечной заботы об устроении жизни. Евангельское чувство жизни не хозяйственное и не государственное, в нем нет отяжеления в грехе — в нем облегчение в искуплении. Общение в Духе Христовом не знает хозяйственно-государственных забот и попечений. Таким откровением жизни в Духе Христовом, не знающем тяготы и бремени общественности этого мира, была жизнь св. Франциска Ассизского — величайший факт христианской истории после жизни Самого Иисуса Христа174. Но путь к этой новой жизни лежит через подвиг и жертву. Путь новой жизни человечества к общению в Духе может лежать лишь через коллективный, соборный жертвенный подвиг, через отречение от той безопасности и устроенности, которые даются ветхой общественностью мира сего. «Христианское государство» есть чудовищная невозможность, соединение несоединимого. Государство не есть откровение общения, оно есть лишь выражение разобщенности, некосмичности мира. В государстве нет творчества нового бытия, а есть лишь послушание закону погруженных в грех, придавленных грехом. Но государство не только есть праведный закон, изобличающий грех, оно, как и все элементы этого мира, само легко превращается в грех. Поэтому природа государства двойственная. С одной стороны, государство праведно изобличает грех законом и начальствующий носит меч не напрасно. С другой стороны, государство само заражается грехом и делает зло. Начало власти в этом мире является источником одного из соблазнов, отвергнутых Христом в пустыне. Государство вечно забывает свое отрицательное происхождение и свою отрицательную природу, претендует быть положительным царством мира сего, земным градом. Этот соблазн империализма подстерегает всякое государство. Государство, по существу своему не творческое, претендует быть абсолютным царством и становится врагом всякого творческого движения — законом, изобличающим не грех, а творчество. Всякое же враждебное изобличение творчества само становится грехом. Послушание последствиям греха превращается во вражду ко всякому творческому движению. Послушание становится рабством. В православной государственности есть пафос вечного покоя, вражда ко всякому движению как греху. Само царство небесное представляется вечным покоем, и царство земное должно быть подобием этого небесного покоя. Всякое движение есть бунт — только абсолютное послушание вводит в царство покоя. Священное государство и на грешной, беспокойной земле должно водворить вечный недвижный покой. Тут святоотеческая психология послушания переходит в окаменение и окостенение, в духовную смерть. Тут психологический источник крайней реакции. Православие как бытовой феномен всегда на стороне этой крайней реакции. Новый Завет оправдывает государство, судящее грех, но не оправдывает государство, судящее творчество. Православно-государственный абсолютизм с его безмерной тяжестью менее всего можно назвать идеологией новозаветной, христианской в собственном смысле этого слова. Так же мало новозаветного, чисто христианского и в папской теократии. Империалистический абсолютизм царя или папы совершенно несовместим с христианством, он вне религии искупления. Тут отяжеление в греховной общественности выдается за откровение общественности христианской. Всякая христианская теократия была ложной и насильственной задержкой жизни во внешней ограде церковности, задержкой, мешающей свободному откровению человечества, свободному его воссоединению с Богом175. Поэтому секуляризация государственности и общественности имеет положительное религиозное значение, она уготовляет свободную богочеловеческую жизнь. Слишком забывают, что христиане Града своего не имеют, Града грядущего взыскуют. Христианского Града еще не видела земля. Творчество нового Града не может быть построено на ветхих элементах общественности, на государстве, праве, хозяйстве, элементах, пребывающих в дотворческой мировой эпохе. В сущности, старохристианский, православный и католический, угол зрения на мир исключает возможность борьбы со злом в мире, с неправдой и несправедливостью в миропорядке, ибо мирочувствие это признает лишь грех и его роковые последствия, но не признает противостоящего человеку злу; несправедливости в земных положениях людей, в строе жизни. Христианство принимало мир таким, каков он есть, оправдывало строй жизни как неизбежное и справедливое последствие греха. Оно делало невозможным священное негодование против низкой неправды. Таков и теософический взгляд на жизнь с его учением о карме. Чтобы бороться воинственно со злом и неправдой, чтобы революционизировать жизнь, создавать жизнь новую, для этого нужно признать самостоятельный источник зла и порабощения в мире176. Но зарождается ли творчество нового Града в революциях?
Все революции, политические и социальные, направлены на механическое, внешнее разрушение закона и искупления, государства и церкви. В этих революциях нет подлинной революции духа — они не творческие, реакционные, обращенные назад, а не вперед. Революции загипнотизированы влюбленной ненавистью к старой жизни, природа их психологически реакционная. Революция есть реакция против старого, а не творчество нового. Революции утверждают некосмическое состояние мира, они не связывают новую жизнь с органическим перерождением мира в космос, в космическую гармонию. Поэтому революции плохо учитываются в космическом миропорядке как движение вперед. Революции продолжают пребывать в той же плоскости, что и реакции, они отрицательно определяются реакциями. Роковая психология революций, психология реакционная, не способна к творческому полету. Революции отяжелевают от накопившейся мести, от отрицательной привязанности к ненавистному прошлому, от власти механических чувств. В революционной психологии есть нездоровая истерика. Для революционной психологии закрыта творческая тайна грядущего. Революционные страсти — не творческие страсти. Революции враждебны всякому творчеству, подозрительны к творчеству. Люди творческого духа совсем не революционеры в социально-механическом смысле этого слова. Их революции иные, несоизмеримо более радикальные, коренные, органические. Революции все еще остаются в эпохах закона и искупления и не переходят в эпоху творчества. Все мышление революционеров и вся их психология есть мышление и психология мировой эпохи