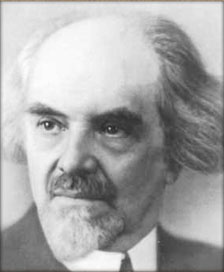опыт разный, и потому приходится ограничиться или замалчиванием, или подсмеиванием, или столь привычной для наших нравов руганью.
Ведь скоро уже наступит желанная минута, когда элементарная наша задача будет решена, исторический долг момента выполнен. Что тогда будет? К чему обязывает нас взгляд вперед, а не назад, забота о создании будущего, а не только разрушении прошлого? Радостная минута освобождения может оказаться для многих роковой, так как обнаружит все их убожество, полное отсутствие творческих идей, варварскую некультурность. До сих пор многое было прикрыто и затушевано тем внешним гнетом, который создавал приподнятое и напряженное политическое настроение. Ценность людей, внутреннее богатство их определялось условными и временными критериями. Радикальная интеллигенция наша подымалась на высоту, и движущий ее дух небытия порождал временами высокие образы бытия. Творческое бессилие и некультурность нашей журнальной литературы имела ту тень оправдания, что делалось самое необходимое и
11 Н.А. Бердяев безотлагательное дело времени. Но скоро, верю, что скоро уже будет иначе. Произойдет культурная дифференциация, политика отойдет к практической жизни и газетам, общественную арифметику нельзя уже будет выдавать за литературу, за творчество культуры. Что тогда станется с нашими журналами? Какими приподымающими настроениями будет жить наша передовая интеллигенция, если внешний, почти механический гнет не будет уже их поставлять? Откроется поле для торжества самодовольного, ограниченного буржуазного позитивизма, о, буржуазного и в социализме, там уже безнадежно буржуазного, поскольку социализм делается религией, высшей инстанцией.
Но есть еще надежда, что бессознательная пока религиозность лучшей части русской интеллигенции, и неведомая нам, стихийно огромная религиозность русского народа не допустит этого превращения в царство мещанства, середины, в плоскость, на которой будет до бесконечности устраиваться и увеличивать свое благоденствие человеческий муравейник. Для этого нужно прежде всего уважать творчество культуры, знать и почитать своих национальных гениев и творцов, как это делали все культурные страны мира, открыть свою историческую плоть и кровь, понять свое предназначение. Тогда только русская культура не только будет, но и получит универсальный смысл и значение. Иначе нам грозит страшное банкротство, так как мы все равно не сумеем быть хорошей буржуазной, позитивной, американской страной, не из такого материала сделаны. Быть может, еще не поздно обратить внимание на пророческое значение Достоевского и сделаться страной, достойной величайшего своего гения. Мы говорим не об арифметических ошибках, которые он часто делал в «Дневнике писателя», а об его высшей математике которой не знает еще и Европа. Но вот над чем следовало бы нам глубоко задуматься. Россия переживает эпоху исторического перелома, всколыхнулись дремавшие силы великой страны, открывается, быть может, совершенно новая эра, а мы лишены всякого пафоса, всякого горения. И умеренная и радикальная интеллигенция уныло исполняет свой исторический долг и не сознает, по-видимому, безмерного, прямо метафизического значения этих минут. Пафоса чисто либерального, освободительного пафоса 89 года или 48 годов7″ у нас быть уже не может, мы слишком запоздали, слишком далеко ушли в сознании, дело это представляется слишком элементарным, да и опыт европейского либерализма давит нас как кошмар. Но не может уже быть у нас и классического социалистического пафоса. Социализм не есть у нас реальная историческая задача времени, а как идеалистическое настроение, как религия, он слишком примитивен, он не может уже удовлетворять современное усложненное, обогащенное роковыми сомнениями сознание[132 — Прошу помнить пристрастного и предубежденного читателя, что это не есть с моей стороны аргумент против социализма, качества которого, как мыслимого для нашей эпохи предела социально-экономической организации, для меня несомненны.] . Иллюзии революционной романтики давно уже рухнули в Западной Европе, и в России они только искусственно поддерживаются гнетом и бесправием. Известные стихи у о рае на земле, который должен быть создан вместо рая небесного, когда-то религиозно вдохновляли, но сейчас уже звучат фальшиво, кажутся плоскими, пошло гедонистическими8″. Не буржуазная, умеренная, серединная критика разрушила романтику революционного социализма, легенду о социалистическом золотом веке, а гораздо более могучие факторы, перед которыми бессильны и беспомощны все благородные, чистые сердцем, но слишком простоватые староверы. Ведь в Европе был Ницше, в России — Достоевский, ведь мы пережили глубокий декаданс, который всегда бывает предтечей ренессанса. Не о политическом только ренессансе идет речь, а о культурном, о новой культуре, построенной на мистических, религиозных началах.
И мы ждем великого культурного ренессанса для России, хотели бы поработать для него. Нам все говорят: после, не сегодня, завтра, несвоевременно еще. Но вечное дело не имеет специального времени, откладывать нельзя, если сознание явилось. Много уже завтрашних дней прошло в Европе и ничего не явилось, она все идет по пути плоского, самодовольного гедонистического позитивизма, пойдет по пути небытия в самом глубоком и истинном смысле этого слова, если тенденция американской цивилизации возьмет верх. Мы любим культурную и освобождающуюся Европу, мы патриоты Западной Европы, как верно говорил Достоевский9*, мы западники, а не восточники, но все же мы должны призадуматься над двумя путями, которые откроются перед освобожденной Россией.
Обычно думают, что Россия или погибнет, умрет, если возьмет верх наш исторический, мракобесно-реак- ционный нигилизм, если он надолго еще задержит ход жизни, или победят освобождающие силы и начнется жизнь новая, светлая, бодрая, и много, много хороших будет вещей. Конечно, перспективы будущего различны у умеренных либералов, у радикалов-демократов или социал-демократов, не для всех остается указанная дилемма: смерть или жизнь. В действительности же время наше гораздо сложнее, гораздо ответственнее и страшнее. Нам, несомненно, грозит смерть, если старый нигилизм будет продолжать властвовать и угашать дух, его царству должен быть положен предел, должна быть наконец провозглашена свобода и достоинство человеческого лица. Это, когда мы смотрим в прошлое, но при взгляде на будущее является новая диллема, и мы не хотим и не имеем права отказаться от попыток ее разрешить. Пойдет ли Россия по проторенному пути позитивистической, мещанской, безрелигиозной культуры, без всякого конечного утверждения бытия, с непобежденной смертью? Мы не хотим этого пути, нам он представляется новой формой небытия и не во имя его мы разрушаем кошмарный призрак старого нашего небытия. Наша надежда связана с новой религиозной, трагической и радостной культурой, с окончательной победой над смертью и окончательным утверждением полноты бытия. Мы этого пути хотим, мы остро сознаем, что настал час поворота, не только поворота внешней, общественной организации жизни, но и внутреннего, метафизического поворота.
Великая страна не может жить без пафоса, без творческого вдохновения, но пафоса чисто политичес-
325
кого, пафоса земного человеческого довольства уже не может быть для людей нового сознания, и уповать мы можем только на пафос религиозный. Осуществление нашей столетней политической мечты, должно быть связано с великим культурным и религиозным ренессансом России. Тогда только мы будем знать, во имя чего действовать и творить. Мы ставим своей целью не только элементарное освобождение, но и ренессанс культурный, создание культуры на почве обновленного религиозного сознания. Тогда только не увлеченное, а конкретное, облеченное в плоть и кровь историческое бытие наше будет иметь универсальное значение, связанное со смыслом всемирной истории.
КРИЗИС РАЦИОНАЛИЗМА В СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ[133 — Напечатано в «Вопросах Жизни». 1904. Июнь.]
(Виндельбанд. Прелюдии)
В хорошем русском переводе появилась книга, признанная почти классическим и самым изящным изложением системы критического идеализма. «Прелюдии» Виндельбанда занимают видное место в современной неокантианской литературе, и с книгой этой нельзя не считаться. Виндельбанд один из учителей германской философии, создатель своеобразной школы телеологического критицизма и очень уж он характерен для теперешнего сознания. Посчитаться с Виндельбандом и такими талантливыми его духовными чадами, как, например, Риккерт, значит посчитаться со всей полосой мысли, исходящей от Канта. «Прелюдии» — это модернизированное кантианство; в Виндельбанде перевоплотился, если не весь дух Канта, то во всяком случае характернейшие его стороны.
А ведь значение Канта далеко не только академическое, и живет он не только в разуме философствующих. Кант — могучий фактор европейской культуры, и мало кто избежал его влияния, если не сознательно, то бессознательно. Своей теорией познания этот мощный гений наложил неизгладимую печать на весь научный дух XIX века, на все наше познание; только он подвел крепость под все, что дорого позитивистам, хотя признают это лишь самые тонкие из них. Гносеологическим переворотом Канта живут до сих пор «идеалисты» всех оттенков, в нем черпают свое вдохновение те, которым представляется столь заманчивым показать иллюзорность бытия, которых манит и влечет идеалистическое «ничто», небытие. Другой своей стороной, своим «практическим разумом», Кант укрепил полновластие добра, ввел в сознание идею мо- ралыюго категорического императива, как единственного спасителя, и унылый, бескровный аскетизм людей нашей культуры многим обязан Канту. В Канте аскетизм исторического христианства высушился, лишился плоти и крови и превратился в мертвящее повеление, не во имя высшего бытия, а во имя призрака, небытия, каким является формальный нравственный закон. Моральная философия Канта делает единственную в своем роде попытку вытравить из человеческого сердца всякую надежду на окончательное, полное и радостное бытие (добро для добра, мораль для морали). Кант был творцом познавательных и моральных ценностей, которыми живет многое множество людей нашей культурной эпохи, но он иссушил их души, опозитивил, отучил от надежд, кровных, жизненных, утверждающих бытие. Часто говорят, что Кант боролся против рационализма, ограничивал его в правах, но в сущности он был самым утонченным из рационалистов, самым крепким рационалистом. Характерно для кантианства еще то, что оно является суррогатом религии, подменой. Эта сухая, отвлеченно-моралистическая религия, заменившая живого Спасителя мертвым категорическим императивом, очень характерна для целой эпохи, в которой померкли религиозные надежды. Присмотримся к наследию кантовского духа.
Виндельбанд делает опыт своеобразного истолкования системы Канта, старается очистить ее от самых глубоких противоречий, от антиномичности, в которой, быть может, вся сила Канта, и свести кантианство к чистому идеализму, одинаково далекому и от реализма метафизического, и от реализма позитивистического. «Философия не должна быть копией мира, ее задача — доводить до сознания людей те нормы, от которых зависит ценность и значение всякого мышления» [134 — «Прелюдии», стр. ИЗ]. «Кант вообще разрушил понятие «миросозерцания» в старом смысле; копирование действительности лишено для него всякого смысла, и поэтому он ничего не учил о том, как могут «дополнять» друг друга знание, вера и чувство в созидании этой картины мира. Кант видит задачу философии в «уяснении принципов разума», т. е. абсолютных норм, а эти последние отнюдь не исчерпываются правилами мышления, но объемлют и правила волевой жизни и чувствований» [135 — Там же, стр. 115].
Кант понял сущность познания и задачу философии, как раскрытие ценностей, заложенных в природе разума, обнаружение трансцендентальных принципов, значение которых определяется вовсе не тем, что в них постигается природа мира. Всякое знание, и философское