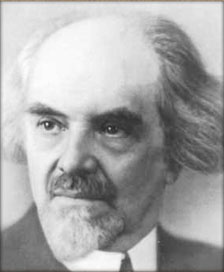[153 — Там же, стр. 294.]. «Стыдно было бы за человечество, если бы этот подлый идеал всеобщей пользы, мелочного труда и позорной прозы восторжествовал бы навеки!»…[154 — Там же, стр. 300.] «Глупо так слепо верить, как верит нынче большинство людей, по-европейски воспитанных, в нечто невозможное, в конечное царство правды и блага на земле, в мещанский и рабочий строй и безличный земной рай, освещенный электрическими солнцами и разговаривающий посредством телефонов от Камчатки до мыса Доброй Надежды … Глупо и стыдно, даже людям, уважающим реализм, верить в такую нереализуемую вещь, как счастье человечества, даже и приблизительно… Смешно, отвергая всякую положительную, ограничивающую нас мистическую ортодоксию, считая всякую подобную веру уделом наивности и отсталости, поклоняться ортодоксии прогресса, кумиру поступательного движения»…[155 — «См.: К. Леонтьев. «Восток. Россия и Славянство», Т. II, стр.38.] «Смесь страха и любви — вот чем должны жить человеческие общества, если они жить хотят… Смесь любви и страха в сердцах… Священный ужас перед известными идеальными пределами; любящий страх перед некоторыми лицами; чувство искреннее, а не притворное, только для политики; благоговение, при виде даже одном, иных вещественных предметов»…[156 — Там же, стр.39.] «Как я, русский человек, могу понять, скажите, что сапожнику повиноваться легче, чем жрецу или воину, жрецом благословенному?»[157 — Там же, стр. 45.] А вот слова, роднящие Леонтьева с Ницше, которого он не знал, а лишь предвосхищал: «Для того, кто не считает блаженство и абсолютную правду назначением человечества на земле, нет ничего ужасного в мысли, что миллионы русских людей должны были прожить целые века под давлением трех атмосфер — чиновничьей, помещичьей и церковной, хотя бы для того, чтобы Пушкин мог написать Онегина и Годунова, чтобы построили Кремль и его соборы, чтоб Суворов и Кутузов могли одержать свои национальные победы… Ибо слава… ибо военная слава,., да, военная слава царства и народа, его искусство и поэзия — факты; это реальные явления действительной природы; это цели достижимые и, вместе с тем, высокие. А то безбожно-праведное и плоско-блаженное человечество, к которому вы исподволь и с разными современными ужимками хотите стремиться, такое человечество было бы гадко, если бы оно было возможно»[158 — Там же, стр. 50.],.. «Именно эстетику-то приличествует во времена неподвижности быть за движение, во времена распущенности за строгость; художнику прилично было быть либералом при господстве рабства; ему следует быть аристократом по тенденции при демагогии, немножко libre penseur4″ при лицемерном ханжестве, набожным при безбожии»[159 — Там же, стр. 56.] … Это страшно характерный для Леонтьева рецепт, он тут выдает себя, но, к сожалению, как мы увидим ниже, сам не всегда следовал эстетическому императиву. Приведу еще некоторые характерные места: «Культура с прежним злом дала миру такое обилие великих умов… Культура же новая, очищенная — в области мысли дает нам или бесспорно бездарных Бюхнеров, или Гартманов, даровитых, но отрицающих действительную благотворность прогресса»[160 — Там же, стр. 70.] … «В трудные и опасные минуты исторической жизни общество всегда простирает руки не к ораторам или журналистам, не к педагогам или законникам, а к людям силы, к людям, повелевать умеющим, принуждать дерзающим!»[161 — Там же стр. 81.] У Леонтьева был эстетический культ насилия, и само христианство, как я постараюсь показать, он умудрялся истолковывать как религию мрачного насилия, страха, а не любви. «Европейская мысль поклоняется человеку потому только, что он человек. Поклоняться она хочет не за то, что он герой или пророк, царь или гений. Нет, она поклоняется не такому особому и высокому развитию личности, а просто индивидуальности всякого человека и всякую личность желает сделать счастливой, равноправной, покойной, надменно-чистой и свободной в пределах известной морали. Это-то искание всечеловеческой равноправности и всечеловеческой правды, исходящей не от положительного вероисповедания, а от того, что философы зовут личной, автономной нравственностью, это-то и есть яд, самый тонкий и самый могучий из всех столь разнородных зараз, разлагающих постепенным действием своим все европейские общества»[162 — Там же, стр. 93.] . Это уже полное отрицание морали, столь характерное для Леонтьева. «И тут царство этой правды! И тут личность, личность, личность!.. И тут свобода!.. И тут европейский индивидуализм, столь убийственный для настоящей индивидуальности, т. е. для исключительного, обособленного, сильного и выразительного развития характеров! И тут автономическая, самоопределяющаяся мораль, гордая и в то же время мелкая, фарисейская «честность» [163 — Там же, стр. 95.]. «Для понимания поэзии нужна особого рода временная лень, не то веселая, не то тоскующая, а мы теперь стыдимся всякой, даже и самой поэтической лени»[164 — Там же, стр. 144.] . «Большая противу прежнего свобода привела личность только к большей бесцветности и ничтожеству… из которых она выходит лишь в те минуты, когда жизнь хоть сколько-нибудь возвращается к старому»[165 — Там же, стр. 154.] . «Социалисты везде ваш умеренный либерализм презирают… французские социалисты и вообще крайние радикалы презирают всех этих Эм. Жирарденов, Тьеров и Жюль Фавров… И они правы в своем презрении… И как бы не враждовали эти люди против настоящих охранителей или против форм и приемов охранения, им неблагоприятного, но все существенные стороны охранительных учений им самим понадобятся. Им нужен будет страх, нужна будет дисциплина; им понадобятся предания покорности, привычка к повиновению; народы, удачно экономическую жизнь свою пересоздавшие, но ничем на земле все-таки неудовлетворимые, воспылают тогда новым жаром к мистическим учениям»[166 — Там же, стр. 157]… «С одной стороны, я уважаю барство; с другой, люблю наивность и даже грубость мужика. Граф Вронский или Онегин, с одной стороны, а солдат Каратаев — и кто?., ну, хоть бирюк Тургенева, для меня лучше того «среднего» мещанского типа, к которому прогресс теперь сводит мало-помалу всех и сверху и снизу, и маркиза и пастуха»[167 — Там же, стр. 213.] . «Для развития великих и сильных характеров необходимы великие общественные несправедливости, т. е. сословное давление, деспотизм, опасности, сильные страсти, предрассудки, суеверия, фанатизм и т. д., одним словом все то, против чего борется XIX век»[168 — Там же, стр. 215.] .
«Все истинные поэты и художники в душе любили дворянство, высший свет двора, военное геройство и т. п.»[169 — Там же, стр. 216.;] «Все изящное, глубокое, выдающееся чем-нибудь, и наивное, и утонченное, и первобытное, и капризно-развитое и блестящее, и дикое одинаково отходит, отступает перед твердым напором этих серых людей. Но зачем же обнаруживать по этому поводу холопскую радость?»[170 — Там же, стр. 219.] «Нет, я вправе презирать такое бледное и недостойное человечество, —- без пороков, правда, но и без добродетелей, — и не хочу ни шагу сделать для подобного прогресса!.. И даже больше: если у меня нет власти, я буду страстно мечтать о поругании идеала всеобщего равенства и всеобщего безумного движения; я буду разрушать такой порядок, если власть имею, ибо я слишком люблю человечество, чтоб желать ему такую спокойную, быть может, но пошлую и унизительную будущность»[171 — Там же, стр. 382.].
Я сделал так много выписок, потому что Леонтьева у нас совсем не знают, хотелось хоть немного познакомить с ним. Видно, что это был крупный человек и выдающийся писатель, оригинальный, доводивший все до последнего предела. Его страстные мысли полны для нас глубокого значения, темы его могут и для нас оказаться роковыми. За писаниями Леонтьева чувствуется глубокая мука и безмерная тоска. Не нашел он для себя радости, и страдания его вылились в злобной проповеди насилия и изуверства. Странное, таинственное у него лицо. Эстет, имморалист, революционер по темпераменту, гордый аристократ духа, плененный красотой могучей жизни, предвосхитивший во многом Ницше, романтически влюбленный в силу былых исторических эпох, тяготеющий к еще неведомой, таинственной мистике, и — проповедник монашеского, строго традиционного православного христианства, защитник деспотизма полицейского государства. Тут какая-то ирония судьбы! Леонтьев хотел спастись от пошлости, безвкусицы, середины, мещанства, дурного запаха прогресса и попал в место нестерпимо смрад- яое, в котором нет ничего творческого и оригинального и красота оскверняется на каждом шагу. И был жестоко наказан. Никто не пожелал слушать проповедника «самодержавия, православия и народности», порядочные люди затыкали нос, нос раньше ушей. Реакционные единомышленники Леонтьева ничего не могли понять, им видна была только казенная сторона его миросозерцания, и пользовались они ею для своих грязных дел. Но Леонтьев мало полезен для реальных, позитивных целей реакционной политики. Это был глубоко индивидуальный мыслитель, оторванный от большого исторического пути, предчувствовавший многое слишком рано, и роковая связь его с реакционной политикой была в высшем смысле для него случайной, глубоко трагичной. Жажда его была вечной и вместе с тем новой, в сознании его загоралось что-то прекрасное и в последнем счете справедливое, а на большом историческом пути своей родины практически он подмораживал гниль, барахтался в смрадной помойной яме. Присмотримся ближе, какие теории строил Леонтьев, чтобы оправдать свою ненависть к либерально-эгалитарному прогрессу и отстоять дорогой для него мистический смысл всемирной истории, построить храм аристократический и эстетический.
Леонтьев, — романтик и мистик в корне своем, выступает в роли защитника своеобразного социологического реализма и даже натурализма. Он сторонник органической теории общества и набрасывает оригинальную теорию развития (не без влияния гораздо менее даровитого Данилевского). В вопросе об органическом развитии обществ мы постоянно встречаем у Леонтьева ультрареалистические и ультрапозитивные аргументы, несколько странные для мистика, но привычные для людей иного направления. Эта органическая теория развития сводится к следующему: «Постепенное восхождение от простейшего к сложнейшему, постепенная индивидуализация, обособление, с одной стороны, от окружающего мира, а с другой — от сходных и родственных организмов, от всех сходных и родственных явлений. Постепенный ход от бесцветности, от простоты к оригинальности и сложности. Постепенное осложнение элементов составных, увеличение богатства внутреннего и в то же время постепенное укрепление единства. Так что высшая точка развития не только в органических телах, но и вообще в органических явлениях, есть высшая степень сложности, объединенная некиим внутренним деспотическим единством»[172 — Там же, стр. 137.]. Государственные организмы проходят три периода: 1) «первичной простоты; 2) цветущей сложности, и 3) вторичного смесительного упрощения»[173 — Там же, стр. 143.]. Все это понадобилось для вывода: «эгалитарно- либеральный процесс есть антитеза процессу развития»[174 — Там же, стр. 144.] . Современная европейская культура с торжеством свободы и равенства, по Леонтьеву, есть «вторичное смесительное упрощение», т.е. разложение, упадок, дряхлость. По роковым, незыблемым органическим законам, всякая нация, всякое государство разлагается и умирает. И разложение наступает тогда, когда начинается «смесительное упрощение», когда либерально-эгалитарный прогресс разрушает неравенство и разнообразие.