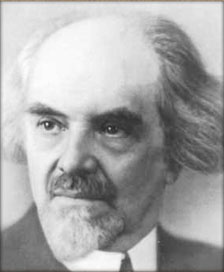«Цветущая сложность» есть величайшее неравенство положений, величайшее разнообразие частей, сдерживаемое деспотическим единством.
Теория Леонтьева есть разновидность органической теории общества и вместе с тем исторический фатализм. Подобно позитивистам, он не признает прогресса, а только развитие, эволюцию. Он гордится своим объективным, бессердечным, жестким реализмом и подозрительно много говорит о своей научности, о натуралистическом своем отношении к человеческим обществам, к государственным организмам. У Леонтьева нет и тени научного реализма, и страстная натура его менее всего была способна к объективности, да и подготовки у него не было надлежащей для научно- социологических исследований. Ему нужно было во что бы то ни стало отстранить ненавистную идею всеобщего благоденствия, торжества правды и счастья на земле путем освободительного и уравнивающего прогресса. Во имя этой субъективной, страстной, совсем не реальной и не научной цели он и схватился за совершенно несостоятельную органическую теорию развития и умирания наций и государств. Кроме натуралистической социологии у Леонтьева была еще мистическая философия истории; служили они одной и той же цели, но совершенно не были между собой связаны.
О философии истории этой мы будем говорить в связи с его пониманием христианства. Опровергать органически-натуралистическое понимание обществ, наций и государств нет охоты, настолько уже признана несостоятельность всех этих попыток в современной социологической методологии[175 — В главе II «Личность и общество» моей книги «Субъективизм и индивидуализм в общественной философии»3* я подверг критике органическую теорию общества. К ней я отсылаю, так как и сейчас вполне разделяю приводимые там социологические аргументы.] . Прежде всего нужно считать твердо установленным, что натуралистический метод неприменим к общественным наукам, он приводит лишь к совершенно фиктивным аналогиям. Жизнь обществ не есть жизнь органическая в биологическом смысле этого слова, и понятие смерти от старости может быть применено к ним лишь в переносном и условном смысле. Но что обнаруживает полнейшую наивность и некритичность Леонтьева, так это его вера в органические законы исторического развития. Нелепость и противоречивость самого понятия «исторического закона», «закона развития» достаточно теперь обнаружена Риккертом и целым рядом гно- сеологов и методологов общественной и исторической науки. Индивидуальное своеобразие всякого развития, всякой «истории» не допускает установления закономерности для конкретного хода жизни. Настаивать на неумолимом ходе якобы органического развития обществ более приличествовало бы дарвинисту или экономическому материалисту, чем Леонтьеву[176 — Назло человеколюбцам Леонтьев говорит: «У идей нет гуманного сердца. Идеи неумолимы и жестоки, ибо они суть не что иное, как ясно или смутно сознанные законы природы и истории». Т. I, стр. 25. Такие путанные утверждения возможны лишь в устах самых наивных материалистов и позитивистов. ]. Как это умудрился он соединить исторический фатализм, уверенность в натуралистически неизбежной гибели национальных культур на известном году жизни, с христианской мистикой? Тут страстная воля ослепляла его разум. У Леонтьева совершенно отсутствует идея свободы, к которой приводит нас и религия, и философия, и наука. Ненависть его к демократической свободе доходила до того, что он соединил мрачные апокалиптические предсказания с чисто натуралистической апологией смерти наций и государств.
Между тем как реальная общественная наука наших дней смиряется перед философским и религиозным учением о свободе, видит природу общества в психическом взаимодействии индивидуальностей и интимную сущность исторического процесса в свободном творчестве человечества. Поэтому наука отказывается от исторических предсказаний и тайну будущего отдает в ведение религиозной свободы.
В тесной связи с учением Леонтьева об органическом развитии стоит его теория национальных типов и национальной миссии России. Все нации Европы, все культуры Запада подошли к страшному пределу, вступили на путь органического разложения и смерти, «цветущая сложность» для них в прошлом, в эпохе Возрождения и т. п. Там, в Европе, все загубил уравнивающий и дезорганизующий прогресс демократии. В западной культуре XIX века Леонтьев уважает только пессимизм, только Шопенгауэра и Гартмана, которые честно восстали против иллюзий «прогресса», против эвдемонистических упований. Расцвет культуры, «цветущая сложность», возможен лишь для России, для славянства, объединенного не либерально-демократическими, разлагающими принципами, а византийскими, организующими. Таким образом на Россию возлагается великая миссия быть оплотом мирового охранения от страшной гибели, всеобщего разложения, смерти всех государственных организмов. Но миссия будет лишь тогда выполнена, если Россия создаст совершенно своеобразную культуру, отличную от западноевропейской. Основами для такой оригинальной культуры Леонтьев считал не великие свойства русского национального духа, а византийское самодержавие и византийское же православие. Вот уж поистине гора родила мышь! У Леонтьева была очень сложная и раздробленная душа, и между частями ее было так же мало связи, как и между частями его мировоззрения. «Цветущую сложность», разнообразие культуры, красоту, силу и индивидуальность Леонтьев любил как язычник, как эллин, а темные стихии его природы тянули к мрачному византийству, к монашескому аскетизму, к самодержавию и православию. Зачем Леонтьеву нужна цветущая культура, к чему красивая сложность и разнообразие, во имя чего этот культ сильных индивидуальностей, которые губят современный «индивидуализм»? Религия Леонтьева всего этого не оправдывает, она проповедует личное спасение и путем к нему считает идеал монашества, по существу своему враждебный культуре и этой языческой любви к красоте жизни. Леонтьев послушничествовал на Афоне и под конец жизни был монахом, спасался от ницшеанства, которое было в его крови независимо от Ницше. Это был трагический человек, раздвоенный до предельных крайностей, и в этом он нам близок и интересен.
Леонтьев не мог осмыслить для себя всемирной истории, вернее, она имела для него два призрачных смысла. То он понимал мировой процесс натуралистически, то мистически. Он поклонялся силе, красоте, героизму, индивидуальному цвету жизни, и, наряду с этим, смирялся перед монашеским христианством. Его пугал ужас конца, предела, и он хватался за византийскую гниль в порыве отчаяния, из надлома, из духа противоречия кому-то и чему-то… В чем же гарантия, что Россия выполнит свою миссию, создаст особенную культуру, не подвергнется европеизации, «либерально-эгалитарному» разложению? Оригинальное творчество требует презираемой Леонтьевым свободы, а этот несчастный человек дошел до того, что возложил надежду свою, надежду отчаяния, на хорошо организованную полицию, на физическое насилие, к которому питал какую-то извращенную страсть.
Что смысл прогресса, либерального и эгалитарного, можно понимать не эвдемонистически, что смысл этого можно видеть в метафизическом освобождении, трансцендентном в своих предельных перспективах, а не в мещанском благополучии и благоустройстве, об этом Леонтьев и не подозревал. Его реакционный пессимизм есть только обратная сторона эвдемонизма, прогрессивного оптимизма, с этой пошлой верой в окончательное торжество бестрагичного счастья и блага на земле. Но можно ведь и совсем выйти из этого круга, стать по ту сторону эвдемонистического оптимизма и пессимизма, выше, постигнуть мировой и исторический процесс в его мистических целях. И тогда нелепым покажется тот вывод, что нужно остановить прогресс, потому что счастья на земле все равно не будет и всякое благополучие пошло и низменно.
В своем натуралистическом рвении, в своем притворном и несоблазнительном реализме Леонтьев отрицает всякие ценности, всякую телеологию. Высшим критерием для него как будто бы является развитое разнообразие общественного организма, он дорожит индивидуальностью какого-то фиктивного целого, а не живой человеческой индивидуальностью. Это поклонение Левиафану не заключает в себе никакой мистики и есть самое грубое реалистическое суеверие, которое мы встречаем у всех позитивных государственников и позитивных сторонников органической теории общества. Что же было с мистикой, с христианством Леонтьева, пока он так неудачно притворялся реалистом и создавал себе кумира из государственного организма? Очень интересно разобраться в леонтьевском толковании христианства и его попытках связать религию Христа, всю Его мистику с реакционной человеконенавистнической политикой. Это захватывающая, огромная по своему значению тема, и с решением ее связана судьба христианства в будущей человеческой истории.
Для Леонтьева христианство не есть религия любви и радостной вести, а мрачная религия страха и насилия. Больше всего он дорожил в христианстве пессимистическими предсказаниями о будущем земли, о невозможности на ней Царства Божьего. Как это ни странно, но христианина Леонтьева притягивало более всего к себе учение о зле, о безбожном и антихристском начале, заключенное в религии Христа. И Леонтьева я решаюсь назвать сатанистом, надевшим на себя христианское обличив. Его религиозный пафос был направлен на апокалиптические предсказания об оскудении любви, о смерти мира и страшном суде. Его радовало это мрачное будущее и не привлекала другая, положительная сторона предсказаний: о воскресении, об окончательной победе Христа, о «новом небе и новой земле»’*. В раздвоенной и извращенной природе Леонтьева заложен был мрачный пафос зла, и насилием он дорожил больше всего на свете. Зловещая сторона апокалиптических предсказаний дает возможность истолковывать христианство как религию аристократическую, и это> радует Леонтьева: «Вечна она (Церковь) — в том смысле, что если 30000 или 300 человек, или всего три человека останутся верными Церкви ко дню гибели всего человечества на этой планете (или ко дню разрушения самого земного шара) — то эти 30000, эти 300, эти три человека будут одни правы и Господь будет с ними, а все остальные миллионы будут в заблуждении»[177 — См.: К. Леонтьев. «Восток, Россия и Славянство», т. II, стр. 180.]. И Леонтьев хотел, чтобы «всего трг» человека», и радовался не столько их спасению, сколько «гибели остальных миллионов». Эстет и русский предтеча Ницше восклицает: «Беру только пластическую сторону истории и даже на боль и страдания стараюсь смотреть только так, как на музыкальные красоты, без которых и картина истории была бы неполна и мертва»[178 — Там же, стр. 215.] . И этот же человек уже другим, византийски-православным голосом восклицает: «Идея христианского пессимизма, благодаря которой весь естественный и никогда, разумеется, неисправимый трагизм нашей земной жизни представляется и оправданным, и сносным… Страдания, утраты, разочарования, несправедливости должны быть: они даже полезны нам для покаяния нашего и для спасения нашей души за гробом»[179 — Там же, стр. 224.] . Древний язычник проповедовал красоту и любовь к жизни, а византиец — государственно-полицейское насилие, во власть которого он целиком отдавал универсальные судьбы человечества. Но этот грешный человек жаждал индивидуального спасения и прилепил сердце свое к аскетизму и монашеству, в котором видел главную суть религии Христа.
Особенно невзлюбил Леонтьев «сентиментальное» или «розовое» христианство, в котором обвинял двух величайших русских гениев: Л. Толстого и Достоевского7*. Даже Достоевский казался «розовым» его черной душе! Так ненавистно было ему все, что пахло «моральной» проповедью любви. Страх, страх, а не любовь — вот краеугольный камень! «Высшие плоды веры, -— например, постоянное, почти ежеминутное расположение любить ближнего, — или никому недоступны, или доступны очень немногим; одним —- по особого рода благодати прекрасной натуры, другим — вследствие многолетней молитвенной борьбы с дурными наклонностями- Страх же доступен