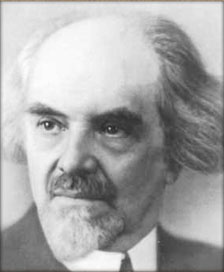всякому: и сильному, и слабому, — страх греха, страх наказания и здесь, и там, за могилой… И стыдиться страха Божьего просто смешно; кто допускает Бога, тот должен его бояться, ибо силы слишком несоизмеримы. Кто боится, тот смиряется; кто смиряется, тот ищет власти над собой, власти видимой, осязательной»… Леонтьев не любил Бога и кощунственно отрицал его благость. Бог был для него темным началом, и он со страхом, со скрежетом зубовным поклонялся ему как творцу зла в мире, благодарил его лишь за то, что может so имя его призывать к насилию, к истязанию всего живого. Его приводили в бешенство все попытки осуществить Царство Божие, царство любви на земле, «Любовь без смирения и страха перед положительным вероучением, горячая, искренняя, но в высшей степени своевольная, либо тихо и скрыто гордая, либо шумно тщеславная, исходит не прямо из учения Церкви; она пришла к нам не так давно с Запада; она есть самовольный плод антрополатрии, новой веры в земного человека и в земное человечество, — в идеальное, самостоятельное, автономическое достоинство лица и в высокое практическое назначение всего «человечества» здесь на земле»[180 — Там же, стр. 269.]. «Христос не обещал нам в будущем воцарения любви и правды на этой земле, нет! Он сказал, что «под конец оскудеет любовь»… Но мы лично должны творить дела любви, если хотим себе прощения и блаженства в загробной жизни, — вот и все»[181 — Там же, стр. 270.]. Таким образом, совершенно отрицается религиозный смысл всемирной истории. «Вера в божественность Распятого при Понтийском Пилате Назарянина, который учил, что на земле все неверно и неважно, все недолговечно, а действительность и вековечность настанут после гибели земли и всего живущего на ней, — вот та осязательно-мистическая точка опоры, на которой вращался и вращается до сих пор исполинский рычаг христианской проповеди. Не полное торжество любви и всеобщей правды на этой земле обещают нам Христос и его апостолы, а напротив того, нечто вроде кажущейся неудачи евангельской проповеди на земном шаре, ибо близость конца должна совпасть с последними попытками сделать всех хорошими христианами»[182 — Там же, стр. 285.]… Леонтьев очень дорожит тем, что «на земле все неверно и все неважно» й что под конец мало будет «хороших христиан»; ему это эстетически нравится. «Верно только одно, — точно, одно, одно только несомненно, — это то, что все здешнее должно погибнуть! И потому — на что эта лихорадочная забота о земном благе грядущих поколений? На что эти младенчески-болезненные мечты и восторги? День — наш, век — наш!»[183 — Там же, стр. 290.] «Братство по возможности и гуманность действительно рекомендуются Св. Писанием Нового Завета, для загробного спасения личной души; но в Св. Писании нигде не сказано, что люди дойдут посредством этой гуманности до мира и благоденствия. Христос нам этого не обещал… Это неправда: Христос приказывает, или советует всем любить ближних во имя Бога, но, с другой стороны, пророчествует, что его многие не послушают»[184 — Там же, стр. 300.]. И Леонтьев не послушал, он послушал лишь пророчество о том, что заповедь любви не будет исполнена, и на пророчестве этом, а не на самой заповеди основал свою религию и политику. Он должен был бы признаться, что таинственное учение Христа о любви ему непонятно и противно. «Перед христианским учением добровольное унижение о Господе лучше и вернее для спасения души, чем эта гордая и невозможная претензия ежечасного незлобия и ежеминутной елейности. Многие праведники предпочитали удаление в пустыню деятельной любви; там они молились Богу сперва за свою душу, а потом за других людей; многие из них это делали потому, что очень правильно не надеялись на себя и находили, что покаяние и молитва, т. е страх и своего рода унижение вернее, чем претензия мирского незлобия и чем самоуверенность деятельной любви в многолюдном обществе. Даже в монашеских общежитиях опытные старцы не очень-то позволяют увлекаться деятельной и горячей любовью, а прежде всего учат послушанию, принижению, пассивному прощению обид» [185 — Там же, стр. 301.]…
Темную ненависть к миру и людям Леонтьев возвел в религиозный догмат, хотя втайне любил не людей, о нет, а сладость мира, и часто наивно обнаруживал эту вторую половину своего существа. Он до последней крайности довел древнее учение о Боге как о властелине и хозяине, мрачном и карающем, и свел отношение между человеком и Богом исключительно к страху и повиновению. Это не христианское учение, в нем забыта идея богочеловечества, интимнейшего сближения и единения божеского и человеческого. Для современного, нового религиозного сознания неприемлем и отвратителен далекий и страшный бог Леонтьева, которому он предлагает служить черную мессу своей изуверской политикой.
Мне всегда представлялось кощунственным, ненавистным и низким всякое учение о Боге как власти, и о человеческом отношении к нему — как повиновении. Власть и повиновение самые грязные, самые подлые слова, какие только существуют на человеческом языке. Взяты слова эти из самой позорной области человеческой жизни, и хотят применить их к самому святому и неизреченному. Новый человек, тоскующий по религиозному смыслу жизни, не примет никогда религии власти и страха, он проклинает эти темные призраки прошлого, которые довели его до муки богоборчества, влечет его только религия свободы и неразгаданной еще любви. Новое религиозное сознание, так мучительно желанное религиозное Возрождение должно претворить в себе весь дорогой для нас опыт новой истории: и старое уже Возрождение, в котором родился новый человек, и восстание разума, и Декларацию прав человека и гражданина великой революции, и современный социализм и анархизм, и бунт Ивана Карамазова и Ницше, и провалы декаданса, и кажущееся богоборчество, и жажду безмерной свободы. Мы не можем уже быть только язычниками или только христианами в исторически ограниченном смысле этого слова, мы должны выйти из противоположения религиозного тезиса язычества и религиозного антитезиса христианства, хотим полюбить мир новой любовью. Мы можем вместить уже большую полноту откровения, чем предшествующие религиозные эпохи. Религии нельзя выдумать, она может лишь открыться, но полнота религиозного откровения достигается лишь на протяжении всего исторического процесса, почва для него создается лишь бесконечным опытом человеческим, и потому религиозному творчеству нет предела. Новое человечество боролось против авторитета в религии, против теологического деспотизма и мракобесия, герои мысли шли в борьбе этой на костры, и мы должны благоговейно принять наследие этой борьбы. Мы не признаем никакого авторитета, никакой внешней, навязанной нам данности в религии, а лишь внутренний наш мистический опыт, которым мы связываем себя с тем, что открывалось в прошлом, и метафизический разум наш, которым религиозный опыт превращается в религиозное учение.
Леонтьев сам во многом, очень многом был новым человеком, но извращенная природа его вела к тому, что в религии и политике он сделался настоящим садистом, исповедовал культ сладострастия мучительства и истязания. Корень изуверской и, вместе с тем, романтической реакционности Леонтьева я вижу в том, что он забыл и не хотел знать самой несомненной истины религиозного откровения, данной и в религии
Христа, — безмерной ценности человеческого лица, образа и подобия Божьего, потенциального абсолютного, которого нельзя превращать в средство. Он много говорит о своей эстетической любви к индивидуальности, но сверхмировое значение всякой живой индивидуальности было ему чуждо н непонятно. Поэтому для мира и людей у Леонтьева было только зло и мрак, насилие и страх. Леонтьевская философия насилия и реакции в конце концов сводится к следующему чудовищному софизму: христианская религия предсказывает торжество зла на земле, следовательно нужно служить злу, чтобы предсказания оправдались.
Его вечно манила сатанинская тень христианства, и он пользовался религией любви лишь для того, чтобы узаконить мучения. Леонтьев был одним из самых страшных циников в истории христианства, но в цинизме этом есть соблазн, с которым должны считаться христиане наших дней, желающие оправдать либерально-эгалитарный прогресс. Ведь проблема отношения религии Христа к прогрессу, к культуре до сих пор остается открытой и роковой, больной для новых религиозных исканий. Христианину не так трудно будет1 опровергнуть Леонтьева, можно сравнительно легко показать, что на нем почил дух антихристов, дух сатанинский, но чем заменить эту реакционную ложь, как быть с тем, что христианство велит все же отворачиваться от мира, как возможна христианская политика? Вл. Соловьев не столько решил этот вопрос, сколько притупил его остроту, механически как-то признав либерально-эгалитарный прогресс. Леонтьев был одним из самых смелых, дерзких и крайних мыслителей, и величина он крупная. Собратья же его по реакционным вожделениям все мелкота, и брезгливый человек не может заставить себя подойти к этим предателям.
Можно избежать софизмов Леонтьева, но несомненно все-таки, что христианство далеко не «розовая» религия, что есть в нем много мрачного, почти жестокого, отворачивающегося от мира. Есть в религии этой книга таинственная, неразгаданная, полная символической красоты —¦ «Откровение св. Иоанна», радостная для немногих, но страшная, безнадежная, бездонно-мрачная для тех, «которых имена не записаны в книге жизни Агнца, закланного от создания мира»8′. Положим, религия Христа не оправдывает реакционного изуверства Леонтьева, он слишком кощунственно и богохульно присвоил себе и своему любимому деспотическому государству миссию суда и кары Божьей. Но как христиански оправдать «либерально-эгалитарный» прогресс, радость жизни и многое дорогое для нас? Почему историческое христианство так часто видело богоборчество в освободительном прогрессе»? Быть может, еще что-то новое должно нам религиозно открыться, быть может, начало уже открываться в новой истории, в метафизическом разуме и в новом мистическом опыте, а открывавшееся былое должно быть признано лишь частной, однобокой, неполной истиной.
¦ * *
Леонтьев был самым крайним государственником, у него был настоящий культ деспотической власти, поклонение государственному насилию. «Сильны, могучи у нас только три вещи: византийское православие, родовое и безграничное самодержавие наше и, может быть, наш сельский поземельный мир»[186 — См.: К. Леонтьев. «Восток, Россия и Славянство», т. I, стр. 98.]. Россия для него светилась лишь отраженным светом Византии, силу и красу ее он видел не в самобытных творческих источниках, а в заимствованных византийских началах. В Россию он не верил, смеялся над наивностью славянофилов, но верил он глубоко и поклонялся русской государственности, созданной влиянием визан- тизма и татарщины[187 — «Мы прожили много, сотворили духом мало и стоим у какого-то страшного предела»… стр. 188. Это страшные слова.]. И Леонтьев упивается государственным имморализмом. «Очень хорошие люди иногда ужасно вредят государству, если политическое воспитание их ложно, и Чичиковы и городничие Гоголя несравненно иногда полезнее их для целого»[188 — Там же, стр. 103]. «Известная степень лукавства в политике есть обязанность»[189 — Там