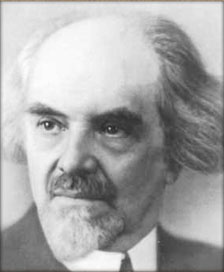союз множества индивидуальных духов в Духе Едином[202 — Т. е. Церковь, а не государство.] (в единении этом достигается абсолютная полнота бытия) — только эти три элемента оправдываются истинным мистицизмом, и для власти и насилия тут нет места[203 — Во избежание недоразумений должен оговориться, что употребляю здесь слово «дух» не в его противоположности «плоти», а как принятое обозначение метафизического конкретного существа, которое вполне признаю духовно-плотским. В философской терминологии понятие «спиритуализма» имеет совершенно другое значение, нежели в религиозно-культурной и моральной проблеме аскетизма. Я решительный сторонник философского спиритуализма или панпсихизма и вместе с тем враг религиозного и морального спиритуализма, т. е. аскетизма. ]. Старое понимание неба, как авторитета и власти, вело к оправданию насильственной власти земной, новое же, свободное понимание неба освятит и укрепит земную свободу и безвластие.
Лев Толстой угадал какую-то огромную правду в своем учении об идеалистическом безвластии, и будет оно крепнуть в сознании будущего. Но он ошибался в путях осуществления, отвергая всякую реальную политику, всякую борьбу сил. Бакунин и ученики его тоже что-то постигли, но впали в другое роковое недоразумение. Они надеялись убить насилие в мире и укрепить в мире свободу на почве материализма и позитивизма. Но что может материализм и позитивизм противопоставить внешнему насилию, отрицая внутреннюю бездонную природу личного духа и бесконечные права его? Ничего или опять-таки новую форму внешнего насилия, допустимого лишь как временное средство, но не как источник и цель. У материалистов и позитивистов нет внутренних творческих источников для царства свободы, и потому в последних пределах они роковым образом впадают в культивирование насильственной государственности.
Всякая романтика, враждебная культуре, должна быть признана реакционной в самом точном смысле этого слова. И обычно одной своей стороной романтика отрицает культуру, отвращенная ее буржуазностью, другой — служит преображению культуры. Романтики влюблены в первозданную! стихию земную. Леонтьев враг культуры и буржуазного прогресса, но он вместе с тем жаждет новой культуры, оригинальной и красивой. В мечтах своих он смотрит назад, на первобытную природу, на красоту былого, и тут он проваливается… Реставрации, возврата нет и быть не может, может быть лишь возрождение, которое всегда есть новое творчество, рождение будущего из семени прошлого. Да, многое в прошлом было прекрасно, и мы постоянно должны к нему обращаться, но возвращение назад есть смерть, свободное возвращение — смерть иногда красивая, насильственное — смерть всегда уродливая. Под страхом смерти и из жажды бытия мы должны и хотим творить культуру, и не только культуру духовную, но и материальную. Метафизический и религиозный смысл культурного прогресса в том, что лишь его путем может быть достигнута окончательная свобода и полнота универсального бытия, на участие в котором каждый «личный дух» имеет «бесконечное право». Во имя этой мистической и романтической, таинственной цели мы не можем и не хотим отказаться от культуры и прогресса.
«Либерально-эгалитарный» прогресс может и должен быть утвержден и принят мистиком и романтиком, потому что цель его не в том, «чтобы французский, немецкий и русский буржуа в безобразной и комической своей одежде благодушествовал бы «индивидуально» или «коллективно» на развалинах прошлого величия»… Леонтьев не понимал религиозно-метафизического смысла всемирно-исторического прогресса, так как религиозность его была индивидуально-аскетической. На исторический процесс, в конце концов, у него был позитивистический взгляд, и в нем вызывали справедливое отвращение, отвращение романтика, позитивные цели и результаты прогресса.
Если царство демократии и социализма есть единственная цель прогресса, а не временное его средство, если ограниченное благополучие, благоденствие и благоустройство, которые заставляют забыть о «бесконечных правах личного духа», будут единственными результатами прогресса, то мы падаем в объятия реакционной романтики. Но это не так.
В эстетической и мистической ненависти Леонтьева к демократии и к плебейской культуре есть какая-то правда, но есть и грубая ложь, грубое недоразумение, в котором мы должны разобраться. Я бы предложил такую парадоксальную лишь по внешности формулу: торжество демократии и социализма во имя окончательного торжества аристократии. Демократизм и социализм лишь способ выявления истинной, надисто- рической, мистической аристократии, так как способом этим искореняется ложная, случайно-историческая, позитивная аристократия. Леонтьев романтически не понимал, как можно предпочесть сапожника жрецу или воину, но ведь беда в том и заключалась, что исторический жрец или воин слишком часто бывал сапожником в самом подлинном смысле этого слова, а у исторического сапожника бывала душа рыцаря. Политический и социальный демократизм есть способ устранить те позитивные, политические и экономические преграды, которые закрепляют, и отнюдь не мистически закрепляют, за сапожниками положение воинов и жрецов, а за истинными воинами и жрецами — положение сапожников. Вместе с тем политический и социальный демократизм есть путь, только путь, к признанию «бесконечных прав личного духа», т. е. к целям трансцендентным. Слишком элементарно настаивать на той истине, что рыцари духа узнаются не по политическим и экономическим прерогативам, созданным позитивным строем жизни, что аристократия может обнаружиться только тогда, когда облик человеческий определяется глубинами «личного духа», когда падает та аберрация, которая вызвана материальной исторической средой. В исторической аристократии были благородные черты высшего для своего времени человеческого типа, к которому, сознаемся, мы питаем романтическую слабость, но черты эти искажались слишком многим, в буржуазии же они исчезли окончательно. Страшно и трагично то, что демократический прогресс как бы понижает человеческий тип, ведет к измельчанию, к ослаблению культурного творчества. Это обратная сторона демократической справедливости, ввиду которой нельзя смотреть на демократическую культуру как на цель и предел. Прогресс и культура антиномичны, тут есть трагические противоречия, из которых нет эмпирического исхода. Но во всяком случае думается, что после эпохи демократической справедливости, после социалистической эпохи организации человеческого питания должна наступить новая, свободная аристократическая эпоха, которую нужно готовить уже теперь, не в противодействие демократии и социализму, а во исполнение их назначения.
Мы не сторонники индивидуалистического аскетизма, поэтому не можем быть равнодушными к организации материальной культуры человечества. Реалистическая же наука и опыт не подсказывают нам для наступающего исторического периода других путей организации материальной жизни, кроме коллективизации производства и соответственного изменения форм собственности. Марксизм сказал много верного о способах борьбы человечества с «природой» и об отражении этой борьбы в материальном строе жизни. И мы должны принять истину социализма, чтобы тем самым бороться против лжерелигиозного пафоса социализма, против культа социального демократизма как цели, а не временного средства. Коллективная материальная, плотская жизнь человечества перестанет быть мещанской и плотской лишь тогда, когда она сделается религиозно-эстетической, когда вернется нашей новой культуре коллективная мистическая чувственность былых религиозных эпох и соединится со свободной индивидуальностью религиозного настроения.
Возможно ли мистическое безвластие и мистическая аристократия, принявшая социализм и прошедшая через него? Вот проблема, к которой приводит нас Леонтьев, да и вся современная культура. Мистицизм и романтический аристократизм Леонтьева глубоко индивидуальны и лежали вне большой дороги русской истории. Сам он не понял этого, но для нас имеет ценность этот странный, одинокий писатель, полный противоречий и пугающих крайностей, вне той исторической лжи и исторического зла, в которые его окунула трагическая судьба. Быть может сейчас, в годину, когда правда оголяется, Константин Леонтьев сознал бы честь романтика и произнес бы мистический суд над историческим злом России. Или изуверство его сделалось бы еще более мрачным, но совсем уже нереальным?
В ЗАЩИТУ СЛОВА[204 — Напечатано в «Вопросах жизни». 1904. Август.]
«Необходимость и благотворность свободы печати есть для меня такая же аксиома, как дважды два — четыре. Доказывать ее я не умею». Этими словами Н. К. Михайловского начинается сборник «В защиту слова» *, предпринятый в самые мрачные для русской печати времена, в эпоху Плеве. П. Н. Милюков в своей статье «Субъективное и социологическое обоснование свободы печати», наиболее теоретической и принципиальной во всем сборнике, говорит: «Если вы спросите обыкновенного среднего англичанина, что он думает о свободе печати, он, вероятно, очень удивится и будет поставлен в затруднение: он давно уже об этом сюжете не думает. И если вы будете все-таки настаивать, он, может быть, скажет вам, что рассуждать о свободе печати — это то же самое, что толковать о важности здоровья, об употреблении вилки и ножа за столом, о незаменимости железных дорог для цивилизации или о пользе стекла: и что лучше всего предоставить все эти темы гимназистам средних классов»[205 — «В защиту слова», стр. 10.].
Волею судеб так сложилась несчастная русская история, что «темы для гимназистов средних классов» сделались преобладающими, что пафос наш почти целиком уходит на доказательство полезности «употребления вилки и ножа за столом». И это глубоко трагично для тех, которые не могут жить арифметическим человеколюбием, которые жаждут творить высшие ценности. Что делать в наши дни человеку, который творчество любит больше педагогики, «призраки» больше «людей»? Мы тоже не умеем доказывать необходимости и благотворности свободы печати, настолько правда эта представляется нам абсолютной и элементарной. Нельзя быть писателем, достойным этого имени, и отрицать свободу слова. Требование свободы слова и благоговейное уважение к нему — это a priori всякого подлинного творчества. В сборнике «В защиту слова» группа почтенных литераторов с определенной, не столько литературной, сколько общественной физиономией, высказала некоторые элементарные, ясные, нужные истины, грубо попираемые нашей властной действительностью. В сборнике этом, казалось бы, нет никакого «направления» кроме общественной порядочности, свободолюбия, прогрессивности, отвращения к насилию и мраку, как, казалось бы, никаких философских «предпосылок», никакого миропонимания и миронастроения. Этот почтенный, благонамеренный сборник нужно приветствовать, так как отрицает он зло несомненное и утверждает он добро столь же несомненное- Но так ли утверждает и во имя чего утверждает?
Мы с грустью читали этот сборник, и страшно нам было за будущее свободы и будущее слова. Не чувствуется в атом сборнике подлинной любви к; слову, не дает он ощущения святости свободы. Очень элементарно! показывают полезность и нужность свободы слова и печати для общественно-политического устроения жизни. Но мы хорошо знаем: когда свобода и слово признаются лишь средствами, когда защищают их лишь во имя утилитарного бога, то во имя все того же утилитарного чудовища свободе будет положен слишком быстро предел и слово не захотят слушать, воздвигнут гонение на свободное слово за бесполезность и ненужность, за вред, который оно будто бы приносит всякому устройству, всякому успокоению, всякой устойчивости. Герои свободного слова страдают не только от утилитарных реакционеров и консерваторов, но и от утилитарных либералов и радикалов; Маленькие великие инквизиторы являются под разными масками, то реакционными, то прогрессивными, и душат свободу, благо сверхчеловеческое, во имя блага человеческого, успокоения и благоденствия людского в государстве (консервативном или радикальном). И ясно, что слово никогда не было для