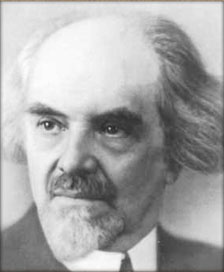и «самоценность» и т. п.: формулировки эти имеют в виду человека исключительно как существо нравственное, т. е. опять‑таки как представителя «долга»[250 — Не более содержательна и та формулировка (в «Критике практического разума»), которая говорит: поступай так, чтобы максима твоей воли постоянно могла быть и принципом всеобщего законодательства®’. Здесь говорится только об идеальной всеобщности абсолютного долга, что относится, очевидно, к его форме, а не содержанию.]. В пустую форму каждому остается вложить свое собственное содержание, как и сделал Кант. Но у различных людей оно окажется различным, потому что внутренний голос говорит им не одно и то же; и как нельзя более естественными и законными явятся такие факты, что, например, один во имя долга пошлет другого на казнь за его убеждения, а этот другой, также во имя долга, спокойно умрет за них. Инквизиторы считали своим «долгом» жечь еретиков и при этом рассматривали душу еретика как «самоцель» или «самоценность», ради спасения которой следует пожертвовать его телом. На жизненный вопрос этики — вопрос «что делать?» — идея «долга» не дает определенного ответа. Только путем схоластической игры неясными понятиями возможно «вывести» из нее тот или иной ответ.
Но критика не ограничилась этим. Исследование социально–психической жизни с эволюционной точки зрения привело к новому важному выводу: оказалось, что всякая «нормативная» общественно–психологическая форма — обычная, правовая, нравственная — стремится закрепить и упрочить те или иные, сложившиеся или складывающиеся, но вполне определенные отношения между людьми, так что с точки зрения этих определенных отношений она неизбежно консервативна. Такова и нравственная идея «долга»; раз она получает определенное содержание: «должно быть вот что», — то по достижении этого «должного» всякое дальнейшее движение задерживается; каждый новый шаг есть уже «не–должное», и идея долга остается ему враждебна до тех пор, пока нравственное сознание людей само не эволюционирует, не изменит своего содержания. Таким образом, критика разоблачила консервативный характер морали долга, ее противоречие со стремлением к непрерывному развитию. В результате — против нее началась энергичная борьба со стороны наиболее прогрессивных мыслителей во имя наиболее активных форм идеализма.
В каком же отношении находится мораль абсолютного долга, проповедуемая г. Бердяевым, к указанным нами основным идеям критики «абсолютного долга»? Каким образом устраняет он формальную пустоту «категорического императива» и его принципиальный консерватизм?
Достигается это довольно простым способом: в пустую форму вкладывается определенное содержание, притом такое, которое «о возможности исключало бы всякий консерватизм или, по крайней мере, внешним образом ему бы противоречило. Получаются такие формулы:
«Должное не есть сущее… это мы принимаем как исходный пункт своих этических настроений» (с. 97, passim).
«Чистая идея должного есть идея революционная, она — символ восстания против действительности во имя идеала, против существующей морали во имя высшей, против зла во имя добра» (с. 94).
«Абсолютное долженствование нельзя приурочить ни к какой укрепившейся форме эмпирического бытия; «должное», о котором говорит спиритуалист, достойный этого имени, есть призыв к вечной борьбе с существующим во имя все высших и высших форм жизни, и эта идея не позволяет никогда ни на чем успокоиться» (с. 119).
Все это очень хорошо, но…
«…слово «долг» не имеет у нас неприятного исторического привкуса» (с. 129).
«В истории слишком часто данную действительность с ее моральными вкусами и требованиями считают за должное, а бунт против нее за нарушение долга» (с. 93–94).
«Только полным затемнением мысли можно объяснить, что самую радикальную идею абсолютного долженствования, понимаемого спиритуалистически, могли связывать с закреплением самых возмутительных, самых реакционных форм сущего» (с. 119).
Итак, мало того, что Кант, этот Колумб «абсолютного долга», вкладывал в него далеко не такое содержание, как г. Бердяев, — это еще можно было оправдать тем, что Кант понимал эту идею не «спиритуалистически», — но и «спиритуалистическое» ее понимание часто связывается с «закреплением самых реакционных форм сущего» и вообще встречается обыкновенно до сих пор в сопровождении «неприятного исторического привкуса».
Из этого можно, по–видимому, с несомненностью вывести такую дилемму: либо категорический императив нередко путает и отдает самые неподходящие приказания, либо он действительно пустая форма, в которую желающий может вкладывать какое угодно содержание.
Но ведь г. Ёердяев указывает на третий выход: «затемненная мысль» перепутывает полученные приказания и превращает их в нечто диаметрально им противоположное. Выход недурной, но… он должен быть обоснован. Надо показать, во–первых, что мысль может так затмеваться и затмевать нравственные стремления, во- вторых, что всякое иное понимание «абсолютного долга», чем понимание г. Бердяева, есть действительное «затмение». Доказать это надо аргументами фактического и логического характера, потому что «затмение мысли» есть факт из познавательной области. Какие же доказательства предъявляет г. Бердяев?
«Требовать для этических положений научно–логической доказуемости — значит не понимать сущности этической проблемы, эти положения имеют специфически этическую доказуемость; они черпают свою ценность не из познавательной деятельности сознания, а из чисто нравственной деятельности» (с. 97).
Ввиду всего этого какой‑нибудь сторонник реакционного, хотя и «спиритуалистического» понимая морали долга может смело с пафосом заявить: «Только крайним затмением мысли можно объяснить, что самую консервативную идею абсолютного должествова- ния, понимаемого спиритуалистически, могли связать с протестом против самых священных, самых незыблемых основ сущего»; а на просьбу доказать это ответит, что нелепо требовать для этических положений научно–логической доказуемости, что доказуемость их вытекает из чисто нравственной деятельности, каковая и привела его, реакционера, к означенному убеждению. Чем опровергнет его г. Бердяев? Даже миллионы цветисто–патетических фраз не изменят того факта, что оба противника будут в равном положении и имеют равное право в пустую форму вложить каждый свое содержание, будет ли оно с привкусом или без оного. Если же признать именно г. Бердяева компетентным своей «специфически–нравственной» деятельностью решать для всех вопрос о том, чем «должен» быть абсолютный долг, то ясно, что «долг» этот не будет уже абсолютным: в лице г. Бердяева над ним будет возвышаться еще одна высшая инстанция и вдобавок несколько «эмпирического» характера.
Во всяком случае, процесс наполнения пустой формы произвольным содержанием не может протекать строго логическим образом. Это нетрудно заметить и на построениях г. Бердяева, там где он пытается конкретнее определить содержание своего «абсолютного долга». Исходя из той мысли, что долг есть выражение нравственной автономии человеческого «я», г. Бердяев делает такой вывод:
«Требование абсолютного нравственного закона есть требование абсолютной свободы для человеческого «я» (с. 133).
Но это превращение «абсолютного закона» в «абсолютную свободу» «я» отнюдь не следует понимать в смысле ужасающего скачка от лояльного Канта к анархисту Штирнеру. Нет, дело здесь сводится к невинной игре терминами. Под «личностью», или «я», г. Бердяев подразумевает только «нормальное я», «нравственно–разумную природу», «нормативное сознание», то есть как раз то, что соответствует требованиям абсолютного долга; понятно, что свобода «я» оказывается у него тождественна со «свободою абсолютного долга», если можно так выразиться, тождественна с абсолютным господством категорического императива. Получается такой результат, что «личность» способна хотеть только «абсолютное должное», путем такого употребления терминов превращение «долга» в «свободу» становится простой тавтологией.
Но от этого ничуть йе легче «эмпирической личности», конкретному человеческому индивидууму, для которого слишком часто «долг» является жестоким врагом его заветных и, в сущности, лучших стремлений, суровым господином, без пощады гнущим и ломающим его жизнь. Правда, г. Бердяев отрицает самое существование эмпирической личности. «К сожалению, понятие эмпирической личности не только неопределенно, но даже немыслимо… Быть личностью… значит выделить свое нормальное, идеальное «я» из хаоса случайного эмпирического сцепления фактов, а сам по себе этот эмпирический хаос не есть еще «личность», и к нему неприменима категория свободы» (с. 133, passim). «К сожалению», эту аргументацию трудно считать чем‑либо иным, как милой философской шуткой. То сложное организованное единство фактов сознания, которое называется психической личностью, отнюдь не простой «хаос», а определенная система, хотя и обладающая лишь относительной, а не безусловной цельностью. Эта реальная психическая система совмещает в себе очень различные тенденции и стремления, которые борются между собою, и безусловное подавление одних другими есть безусловное стеснение «свободы» первых. Для человека, переживающего мучительную борьбу «чувства» и «долга», рассуждение Г. Бердяева представится самою злою насмешкой. Такой человек слишком хорошо сознает, что подавить чувство не значит дать ему свободу, и после победы «нормального я», т. е. долга, нередко не только не чувствует себя «свободным», но пускает пулю в голову, чтобы не переносить больше рабства. И г. Бердяеву ничем не разубедить такого человека в том, что его «чувство» есть его чувство и в то же время его «долг» есть его долг, — ничем не убедить в том, что свобода чувства и подчинение долгу — одно и то же. Г. Бердяев предложит ему, конечно, относить что‑нибудь из двух не к своему «я», а к «эмпирическому хаосу», но… мы не хотели бы быть свидетелем того ответа, который получил бы на это г. Бердяев.
Развивая далее конкретное содержание своей морали г. Бердяев ставит вопрос: «Каково же отношение внутренней свободы к свободе внешней, свободы нравственной к свободе общественной?» (с. 133). Отвечает он так: «Можно ли примирить внутреннее самоопределение личности, ее нравственную свободу и признание за ней абсолютной ценности с внешним гнетом, с эксплуатацией ее другими людьми и целыми группами, с поруганием ее человеческого достоинства общественными учреждениями? Могут ли те люди и группы, которые наконец осознали в себе достоинство человека и неотъемлемые «естественные» права своей личности, терпеть произвол и насилие? На эти вопросы не может быть двух ответов, тут всякое колебание было бы позорно» (с. 134).
Очень красиво и симпатично, но, увы, далеко не убедительно или, вернее, убедительно лишь постольку, поскольку не имеет никакого отношения к морали абсолютного долга. То абсолютное «я», которое в ней фигурирует, совершенно «свободно» может заниматься «внутренним самоопределением» и «признанием за собою абсолютной ценности» при каком угодно «внешнем гнете». Это конкретные человеческие личности, состоящие не из одного «абсолютного долго», но из бесчисленных и разнообразных переживаний, одаренные жаждой жизни, силы и счастья, это они действительно не могут переносить поругания и эксплуатации, потому что именно на них обрушивается и то и другое. Пусть г. Бердяев, если угодно, обвиняет нас в «поругании» абсолютного «я», но все же мы не можем удержаться от вопроса, где видел он капиталиста, способного «эксплуатировать» эту чистую абстракцию? Разве она получает заработную плату и создает прибавочную ценность? Нет, уж если кто умеет эксплуатировать абсолютное «я», так это сам г. Бердяев, извлекающий из него целую систему морали до либеральной программы включительно.
Логический скачок от идеального «я» к реальной «эмпирической» личности — таков способ, которым г. Бердяев обосновывает необходимость «внешней свободы» на «свободе внутренней». Это не лучше, чем на субстанциальности души обосновать необходимость для