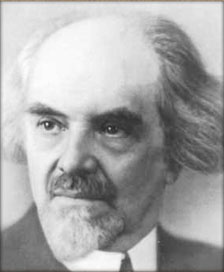пернатом каком‑нибудь шлеме переходил Граник и бился под Арабеллами, что апостолы проповедовали, мученики страдали, поэты пели, живописцы писали и рыцари блистали на турнирах для того только, чтобы французский, немецкий или русский буржуа в безобразной и комической своей одежде благодушествовал бы индивидуально или коллективно на развалинах всего этого прошлого величия». И еще: «Надо подморозить хоть немножко Россию, чтоб она не гнила». Уже по приведенным словам сразу видно, что мы имеем дело с духом смелым, своеобразным, независимым. Или еще пример: «Именно эстетику‑то приличествует во времена неподвижности брать за движение, во времена распущенности за строгость; художнику прилично быть либералом при господстве рабства, ему следует быть аристократом по тенденции при демагогии, немножко libre penseur’oM»(«немножко», вероятно, для цензуры и редактора) при лицемерном ханжестве, набожным при безбожии». Такого рода откровенность даже в наше время, когда прежняя внутренняя цензура почти совсем отменена, нечасто встретишь. Сам Бердяев, открывший для русского читателя Леонтьева и с радостью и уважением отмечающий независимость его мысли, в конце концов подвергает его суждения догматической критике. Предание, традиция тяготеют над ним, и пример Леонтьева при всей своей соблазнительности кажется ему слишком рискованным и опасным, благодаря чему как в этой, так и в других статьях подмечается у него странная двойственность. Сердцем он сочувствует Леонтьеву, радуется державной свободе его души, гибкости и легкости его мысли, но ум, вернее, умы, малый, средний и большой, все восстают против бедного сердца со своими категорическими императивами. «Ты не должен в своих суждениях считаться ни с чем, кроме единой и вечной истины», — кричат они властными голосами, и Бердяев, недавно на минуту насладившийся вместе с Леонтьевым прелестью общения с легкомысленной, капризной, но изящной и очаровательной Глупостью, послушно возвращается на свое место и отрекается и от себя, и от Леонтьева.
Чудесно начатая статья кончается проектом соглашения между Глупостью и здравым смыслом, соглашения, при котором все выгоды на стороне последнего. Бердяев никак не может окончательно поверить, что Глупость имеет свои законные, не подлежащие ни контролю, ни ограничению права. Она прекрасна, спору нет, здравый смысл до смерти надоел и скучен, как старая ханжа, но все же повиноваться нужно ему, а Леонтьев подлежит укрощению. И все почти статьи Бердяев написаны по тому же плану, что статья о Леонтьеве. Синтез ли тут замешан (вернее всего, что синтез) или что иное — не могу точно сказать. Начинает обыкновенно Бердяев с того, что набросится на здравый смысл, кричит, бранит его, с грязью смешивает, топает ногами. Бедный здравый смысл, совершенно не привыкший к такому обращению (мне кажется, что никто из наших писателей не умеет так свысока и пренебрежительно разговаривать со здравым смыслом, как Бердяев), дрожит, теряется, не знает с испугу, что сказать в свое оправдание. Он не может вынести такого к себе отношения: до сих пор обыкновенно кричали и топали ногами, когда разговаривали с Глупостью. Но под конец статьи Бердяев обязательно смягчается и вновь возвращает здравому смыслу если не все, то хоть часть исторически признанных за ним прав. Поэтому его книга может быть интересна и полезна для людей разнообразных вкусов. Кому нравится здравый смысл, тот пусть обращает преимущественное внимание на заключительные страницы статей, кто любит Глупость — пусть читает главным образом начало: жалеть не будет. Мне, как я уже признался, больше по сердцу Глупость. Не то, чтоб я был уверен в ее окончательной победе над здравым смыслом. Уверенности такой у меня нет. Но ведь не возбраняется иногда и идеализировать жизнь, т. е. верить тому, чего не бывает, и не верить тому, что бывает. Есть даже идеалистические философские направления. Многие люди постоянно и систематически верят в несуществующее и никогда не верят в действительность. Я позволяю себе иногда роскошь добровольного заблуждения и с истинным наслаждением перечитываю те места книги Бердяева, в которых приводятся его собственные или чужие глупости, и верю им, верю, хотя бы они тысячу раз противоречили всякой несомненности и очевидности. Он, например, говорит: «Мистический реализм ведет не к статическому догматизму, а к догматизму динамическому (подчеркнул я), всегда двигающемуся, творческому без границ, прозревающему и преображающему. Живая и реальная мистика всегда должна что‑нибудь открывать, что‑нибудь утверждать, должна опыты производить и рассказывать об испытанном и увиденном, она догматична во имя движения, чтобы движение действительно было, чтобы в движении что‑нибудь происходило». Т. е. адогматический догматизм, или догматический адогматизм, так называемое contradictio in abjecto*; движущийся покой, деревянное железо и т. д. Я спрашиваю, какой еще писатель имеет дерзновение так открыто противоречить законам логики и так мало о логике (том же здравом смысле) заботиться?! и это уже в самом начале книги, в предисловии! Мне только ужасно жаль, что Бердяев употребляет так много незнакомых публике иностранных терминов. Благодаря этому смысл его речей для большинства темен. Пожалуй, найдется немало читателей, которые, пробежавши приведенные строки, вовсе и не оценят их по достоинству. Подумают, что это обыкновенная ученость, трудная для понимания именно потому, что очень строго придерживается логики и боится согрешить пред законом противоречия. А теперь не угодно ли отрывок из послесловия: «Никакая наука не может доказать, что в мире невозможно чудо, что Христос не воскрес, что природа Божества не раскрывается в мистическом опыте, — все это просто вне науки, у науки нет слов, которые выразили бы не только что‑либо положительное в этой области, но хоть и что‑либо отрицательное. Положительная наука может только сказать: по законам природы, открываемым физикой, химией, физиологией и прочими дисциплинами, Христос не мог воскреснуть, но в этом она только сходится с религией, которая тоже говорит, что Христос воскрес не по законам природы, а преодолев необходимость, победив закон тления, что воскресение Его есть таинственный мистический акт, к которому мы приобщаемся только в религиозной жизни». Наука, положим, говорит не так, но до науки нам сейчас дела нет. У Бердяева же получается, что законы природы и существуют, и не существуют. Ибо чудеса не только возможны, но даже и происходили в действительности на глазах у людей. Бердяев вспоминает только о воскресении Христа. А воскрешение Лазаря, излечение слепых и паралитиков, а пятитысячная толпа, насытившаяся двумя хлебами и пятью рыбами, и т. д.? Все это известно нам из того же источника, из которого мы знаем о воскресении Христа. Стало быть, в свое время нарушение законов природы было столь же обыкновенным явлением, как в настоящее время их ненарушимость. И стало быть, либо положение науки, что законы природы ненарушимы, вопреки логике, сосуществует с противоположным положением, что законы природы могут быть нарушаемы, либо оно прямо ложно. Это заключение, особенно близкое и дорогое мне, так же близко и дорого сердцу Бердяева. Он его формулирует в следующих словах: «Быть может, логические законы, которые держат нас
19 Н. А. Бердяев в тисках, это лишь болезнь бытия, дефект самого бытия». Зачем только «быть может»? Прямо бы догмат: логические законы есть только болезнь бытия, и отсюда вывод: так как логика для нас необязательна, то, стало быть, законы природы одновременно и существуют, и не существуют. Так было бы лучше.
Впервые мысль о том, что законы природы и существуют, и не существуют, — мысль, проходящая через всю вторую половину книги Бердяева, высказана с особенной ясностью в статье «О новом религиозном сознании», посвященной Мережковскому.
По–видимому, самая мысль возникла у него отчасти под влиянием Мережковского. По–видимому, Бердяев считает себя многим обязанным этому последнему и не находит нужным скрывать этого обстоятельства. Темы Мережковского он считает гениальными и усваивает не только темы, но и любимые слова и выражения Мережковского (Ипостась пишет с прописной ижицы). Бердяев говорит: «Мережковский понял, что исход из религиозной двойственности, из противоположности двух бездн — неба и земли, духа и плоти, языческой прелести мира и христианского отречения от мира, что исход этого не в одном из Двух, а в Третьем: в Трех. В этом его огромная заслуга, огромное значение для современного религиозного движения. Мука его, родная нам мука, в вечной опасности смешения, подмены в двоящемся Лике Христа и Антихриста, в вечном ужасе, что поклонишься не Богу Истинному, что отвергнешь одно из Лиц Божества, одну из бездн, не противный Богу, а лишь противоположный и столь же Божественный полюс религиозного сознания». Я лично не разделяю суждений ни Мережковского, ни Бердяева. Я даже не полагаю, что так поставленный вопрос о небе и земле может иметь большой интерес. Я нахожу, что Мережковский, заимствовавший и постановку вопроса и его разрешение главным образом у Достоевского, ложно понял этого последнего. Основной человеческий вопрос есть отнюдь не вопрос моральный. Если сочинения Достоевского в том смысле недостаточно ясны и допускают различные толкования, то это лишь потому, что Достоевский, как и всякий человек нового слова и нового дела, не умел и не решался быть всегда только самим собой. Он пользовался многими старыми словами. И так как старое понятнее нового, то за старое и ухватились. Теология Достоевского есть принятое им готовое наследие. Так что, в сущности, Мережковский через голову Достоевского получил богатства, хранившиеся до него в старинных сокровищницах европейской культуры. То же, что принадлежало собственно Достоевскому, было признано Мережковским лишь на минуту — и потом предано забвению. Бердяев в этом следует примеру Мережковского. Правда, что Бердяев не всегда и не во всем соглашается с Мережковским, часто спорит с ним и иногда даже посылает ему несправедливые упреки. Например, он говорит: «У него (у Мережковского) часто не хватает художественного дара для творчества образов и мыслительного дара для творчества философских концепций». Если я правильно понимаю Бердяева, то в этих словах он высказывает общераспространенное мнение о Мережковском. Все говорят о Мережковском (о Минском тоже), что он холодный головной писатель, т. е. всем бы хотелось, чтоб Мережковский и Минский, прежде чем говорить о крестных страданиях, повисели бы с часик сами на крестах. Иначе будто бы нельзя доверять их осведомленности. Какая дикость, некультурность! Из- за нового образа из‑за новой концепции добровольно на крест идти! И Бердяев, свой же брат писатель, повторяет такие вещи.
Это я, впрочем, только к слову заметил, тем более что все равно ни Мережковский, ни Минский не поддадутся соблазну. Ибо знают, что если уж выбирать, то лучше, чтоб страдали книги, чем их авторы. И затем, все, что нужно узнать для составления философских концепций, можно добыть более простым и менее рискованным путем. Сам же Бердяев пишет про Мережковского: «Он видел жизнь, смысл ее в греческой трагедии, в смерти богов языческих