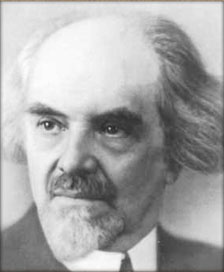духовности. Человек как нумен в начале, и человек как нумен в конце. Но он изживает судьбу свою в мире феноменальном. То, что мы называем концом, проецируя его во внешнюю сферу, есть экзистенциальный опыт касания нуменального, и нуменального в его конфликте с феноменальным. Это не есть опыт развития, это есть опыт потрясения, катастрофы в личном и историческом существовании. При объектности мира, при падшести человеческого существования конец представляется фатумом, тяготеющим над греховным миром и человеком, прежде всего страшным судом. В конце есть неотвратимый момент суда совести, которая есть как бы голос Божий в человеке. Но в конце есть и наступление царства Божьего. И тут есть антиномия, связанная со свободой. Конец есть не только дело божественного фатума (самое словосочетание плохое), но и дело человеческой свободы. Это — не меньшая антиномия, чем антиномия, связанная со временем. Отсюда — гениальное прозрение Н. Федорова об условности апокалипсических пророчеств. [150 — См. его «Философию общего дела».] Если не будет христианского «общего дела», дела свободы в осуществлении царства Божьего, то будет одно — будет темный, страшный конец; если же будет «общее дело» людей, то будет другое — будет преображение мира, воскресение всего живущего. Но Н. Федоров не нашел философского выражения этой проблемы, его философия была наивно реалистической и однопланной. Подлинное, глубинное существование человека, нуменальное «я», не принадлежит к миру объектов. Конец мира будет концом для мира объектного, но придет он от процессов, происходящих не в объектном мире. Трансцендентный свет в мире приходит не из мира, если под миром понимать объекты–феномены, он может приходить лишь из субъектов–нуменов. Парадокс времени ведет к тому, что конец мира всегда близок, всегда есть касание его в акте потрясений. И вместе с тем конец мира проецируется в будущее и говорит о наступлении апокалипсической эпохи. Конец воспринимается не как фатум, а как свобода, есть обретение личности и свобода в конкретной универсальности духовного существования, в вечности. Это есть преображение мира, в котором человек творчески и активно участвует, это есть новое небо и новая земля.
Реальные экзистенциальные отношения существ, существующих, могут выражаться в законах, но не подчиняются законам как чему–то, над ними господствующему. Поэтому возможно изменение отношений в мире, прекращение объектности этих отношений. Такое изменение отношений есть победа над властью необходимости и, с точки зрения детерминистического миросозерцания, оно чудесно. Это есть смысловое понимание чудесного. В истории европейского сознания столкнулись и противоположили себя друг другу две веры — вера в Бога и вера в человека. Но это был лишь момент диалектики сознания. На более высшей ступени сознания человек понимает, что вера в Бога предполагает веру в человека и вера в человека — веру в Бога. Поэтому христианство должно быть понято как религия Богочеловечества. Единственная причина веры в Бога есть существование божественного в человеке. И никакая низость человеческая, поистине страшная, не может заставить отрицать эту высоту человека. Вера в Бога без веры в человека есть одна из форм идолопоклонства. Самая идея откровения делается бессмысленной, если тот, кому открывается Бог, совершенное ничтожество и совсем не соответствует открывающемуся. Отрицание и унижение человека в бартианстве делает бартианскую теологию недиалектической. В противоположность Шлейермахеру, можно было бы сказать, что религия есть не чувство зависимости человека, а чувство независимости человека в отношении к миру, в силу того что в человеке есть божественное начало, есть в нем богосыновняя ипостась. Но человек в экзистенциальной диалектике проходит через состояние приниженности и подавленности. И ему хотели внушить, что эта приниженность и подавленность и есть его единственная природа. Но человек не есть только один из феноменов в мире объектном. В нем остается его нуменальная сущность. И в актах, исходящих от этой нуменальной сущности, он может изменять этот мир. Ошибочно совершенно разделять этот мир и мир иной. Именно конкретная жизнь в этом падшем объектном мире, конкретная жизнь людей, животных, растений, земли, гор, полей, рек и морей, звезд и небесных пространств заключает в себе нуменальное ядро, которого нет в отвлеченно–общем, в гипостазированной иерархии универсалий. Но падший мир создает и фиктивные образования, лишенные нуменального ядра, — солома, которая должна быть отделена от плевел, отвратительные гады и насекомые, призрачные чудовища. Эсхатологическая перспектива, преображение мира, возможна именно потому, что есть нуменальная основа в конкретной жизни мира, в самых простых её проявлениях. И во всяком случае в ней больше этой нуменальной основы, чем в жизни государств и в технической цивилизации, в которых всякая индивидуальная жизнь подавлена отвлеченно–общим.
2. ЭСХАТОЛОГИЯ ЛИЧНАЯ И ЭСХАТОЛОГИЯ УНИВЕРСАЛЬНО–ИСТОРИЧЕСКАЯ. ПРЕДСУЩЕСТВОВАНИЕ ДУШ И МНОГОПЛАННОЕ ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЕ. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ЗЛА
Есть две эсхатологические перспективы: индивидуально–личная и универсально–историческая. Согласование этих двух перспектив необыкновенно трудно вследствие парадокса времени. В традиционной христианской теологии эта перспектива никогда не была сносно разъяснена. С одной стороны, утверждается индивидуальное разрешение личной судьбы после смерти человека. С другой стороны, ждется разрешение судьбы всего мира и человечества в конце времен, в конце истории. Между двумя перспективами образуется пустое время. Моя вечная судьба не может быть изолирована, она связана с судьбой истории, судьбой мира и человечества. Мировая, всечеловеческая судьба есть и моя судьба, и наоборот, мировая всечеловеческая судьба не может быть разрешена без меня. Моя неудача, неудача любого существа, будет и мировой, всечеловеческой неудачей. То, что моя личная судьба для меня не меньше значит, даже больше значит, чем судьба всей солнечной системы, не есть выражение обыкновенного человеческого эгоизма, а есть подтверждение микрокосмичности человека. Между тем как мстительные и жестокие инстинкты людей строили мстительную и жестокую эсхатологию. Как это ни печально, но нужно признать, что религии спасения склонны к концепции ада. От мстительной эсхатологии не свободен и христианский Апокалипсис. Это вдохновляло и великого христианского поэта Данте. Построено было даже учение о наслаждении праведников в раю созерцанием мук грешников в аду (Книга Эноха, папа Григорий Великий, Фома Аквинат, Иоанн Эдварс). Неверно думать, что учение о вечных муках лишь ужасает людей, оно также доставляет им удовлетворение и удовольствие. И так бывало не только у жестоких, злых, мстительных людей. Фома Аквинат был святой человек, совсем не злой, скорее мягкий и добрый человек. Но он предвосхищал наслаждение от торжества справедливости в адских муках грешников. Идея справедливости может оказаться мстительной идеей. Идея ада имела огромное значение, она в измененной форме действует и в сознании, утерявшем старую веру. Ненависть, месть, беспощадное отношение к врагу всегда ведут к желанию ада. Учение о вечном аде есть безысходный, не относительный, а абсолютный дуализм, и оно означает роковую неудачу не человека только, но прежде всего Бога, неудачу миротворения, неудачу не во времени, а в вечности. Предельный религиозный ужас, в сущности, не от Бога, а от того, что Бога нет, что Бог ушел, отрезан от меня. Переживание ада есть переживание безбожия. Поразительно, что персы, которые считаются источником дуалистической концепции, признавали ад не вечным и в этом имели преимущество перед христианами, исповедующими доктрину о вечном аде. Проблема ада имеет основное значение для эсхатологии. Эсхатологическая перспектива ада есть рабство у падшего объективированного времени. Это свидетельствует о том, что в плане объективации неразрешима стоящая перед человеком эсхатологическая проблема. Между тем как традиционные теологические доктрины в своей эсхатологии целиком находятся во власти объективации, они относят к нуменальному миру то, что может быть отнесено лишь к феноменальному миру, они относят к вечности то, что может быть отнесено лишь ко времени, и наоборот. Человек здесь, на этой земле, знает опыт адских мук, и эти муки представляются ему бесконечными, не имеющими конца во времени. [151 — См. мою книгу «О назначении человека».] Но в этом опыте человек остается во власти падшего времени, он не выходит к вечности. И вследствие иллюзий сознания, порожденных объективацией, человек проецирует свой опыт адских мучений на вечную жизнь, он объективирует зло здешней жизни в диавольское, адское царство, параллельное царству Божьему. Но если освободиться от кошмаров, порожденных нашим объективированным сознанием, за которым лежит бездна подсознательного, то может наступить просветление в нашем переживании парадокса времени. Ад есть, и лишь легкомысленный оптимизм может его совершенно отрицать. Но ад посюсторонен, а не потусторонен; феноменален, а не нуменален; он во времени, а не в вечности; он более относится к области магии, чем мистики. И вместе с тем проливается для меня свет на то, что ад, хотя бы для меня одного, которого в иные минуты я считаю себя достойным, есть неудача всего творения, есть трещина в царстве Божьем. И наоборот, рай для меня возможен, если не будет вечного ада ни для одного живущего и жившего существа. Спасаться в одиночку и в изоляции нельзя. Спасение может быть лишь соборным, всеобщим освобождением от муки. И самое слово «спасение» есть лишь экзотерическое выражение для просветления и преображения. Без такого понимания миротворение неприемлемо.
У древних евреев надежда на бессмертие связана была не с учением о душе, а с учением о Боге, об исполнении Богом обещаний, данных народу. Это есть мессианская вера и надежда. В христианстве эта мессианская вера и надежда принимают универсальный характер. Это есть надежда на всеобщее воскресение и преображение, на наступление царства Божьего. Учение о вечном аде в христианской эсхатологии значит, что не было ещё вполне достигнуто универсальное сознание и что дух любви не победил ещё духа древней мести. Не было ещё освобождено христианское сознание от остатков мстительной и уголовной эсхатологии. Должно быть ещё очищение христианского сознания от древнего страха, от terror anticus. В этом страхе было смешение этого мира, грозившего человеку мукой, со страхом Божиим. Идея Бога была подавлена ограниченными категориями социоморфизма, антропоморфизма, космоморфизма. Но в этом было недостаточное благоговение перед Божественной Тайной. Человеческие, слишком человеческие счеты были перенесены на Бога, на Его отношение к миру и человеку. Бог мыслился в здешних категориях силы, власти, управления, суда. Но Бог не походит ни на что в мире объективации. Бог не есть даже бытие, тем менее сила, в здешнем смысле, или власть, но есть дух, свобода, любовь, вечное творчество. Слабость эсхатологии в тенденции возврата во время, когда стоит вопрос о вечности. В эсхатологической мысли, не свободной от власти объективации, проецирующей конец в форме этого мира, невыносима не только картина ада, но и картина рая. На небо переносится сублимированное чувственное земное царство, на него переносятся наши ограниченные социальные категории. О бесконечном судят по конечному. Иногда является желание предпочесть нашу грешную землю с её неудовлетворенными бесконечными стремлениями, с её противоречиями и страданиями этому ограниченному, конечному,