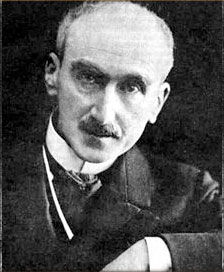И это будет легко ему даваться, поскольку теология уловила как раз то самое течение источник которого находится в мистике. Таким образом его мистицизм использует религию вплоть до тех пор, когда религия станет обогащаться его мистицизмом. Тем самым объясняется роль, которую он ощущает себя призванным сыграть вначале, роль усилителя религиозной веры. Он делает самое неотложное. В действительности для великих мистиков речь идет о том, чтобы радикально преобразовать человечество, начав с собственного примера. Цель может быть достигнута только в том случае, если в конце существует то, что теоретически должно было существовать вначале: божественное человечество.
Мистицизм и христианство, таким образом, бесконечно обусловливают друг друга. Необходимо, однако, чтобы было начало. И действительно, в начале христианства существует Христос. С точки зрения, которой мы придерживаемся и из которой возникает божество всех людей, несущественно, зовется Христос человеком или не зовется. Неважнодаже, что он зовется Христом. Те, кто дошел до отрицания существования Иисуса, не помешают тому, чтобы Нагорная проповедь находилась в Евангелии вместе с другими божественными речами. Автору можно дать какое угодно имя, это не будет означать, что автора не было. Мы не собираемся ставить здесь подобные проблемы. Скажем просто, что если великие мистики действительно таковы, как мы их описали, то они оказываются оригинальными, но неполными подражателями и продолжателями того, чем полностью был Евангелический Христос.
Сам он может рассматриваться как последователь пророков Израиля[63].Не вызывает сомнений, что христианство явилось глубоким преобразованием иудаизма. Много раз было сказано: религия, которая была еще по существу национальной, сменилась религией, способной стать всеобщей. Преемником Бога, который несомненно выделялся среди всех остальных как своей справедливостью, так и своим могуществом, ночье могущество осуществлялось на благо своего народа и чья справедливость касалась прежде всего его подданных, стал Бог любви, Бог, который любит все человечество. Именно поэтому мы не решаемся отнести еврейских пророков к мистикам древности: Яхве был слишком строгим судьей, между Израилем и его Богом не было достаточно близости для того, чтобы иудаизм был мистицизмом в том виде, как мы его определяем. И тем не менее ни одно течение мысли или чувства не способствовало в такой степени, какеврейский профетизм, созданию мистицизма, который мы называем полным, того, который был присущ христианским мистикам. Причина этого в том, что, если другие течения и вели некоторые души к созерцательному мистицизму и тем самым заслужили того, чтобы считаться мистическими, они завершались чистым созерцанием. Чтобы преодолеть расстояние, разделявшее мысль и действие, необходим был порыв, которого недоставало. Мы находим этот порыв у пророков: они страстно стремились к справедливости, онитребовали ее именем Бога Израиля; и христианство, которое явилось продолжением иудаизма, в значительной мере обязано еврейским пророкам тем, что обладает мистицизмом действующим, способным идти на завоевание мира.
Если мистицизм действительно есть то, что мы сейчас сказали, он должен дать средство подойти в некотором роде опытным путем к проблеме существования и природы Бога. Впрочем, мы не видим, как иначе философия могла бы к ней подойти. Вообще говоря, мы считаем существующим такой объект, который воспринимается или может быть воспринят. Стало быть, он дан в опыте, реальном или возможном. Вы вольны сконструировать идею какого-нибудь объекта или существа, как делает геометр с геометрической фигурой; но только опыт сможет установить, что они действительно существуют помимо идеи, сконструированной таким образом. Вы можете сказать, что весь вопрос в этом и состоит и что речь идет как раз о том, чтобы узнать, не отличается ли известное Существо от всех остальных тем, что оно недоступно нашему опыту и тем не менее столь же реально, как они. На мгновение допускаю это, хотя утверждение такого рода и рассуждения, которыми оно сопровождается, заключают в себе, как мне представляется, фундаментальную иллюзию. Но остается еще установить, что Существо, определенное, доказанное таким образом, это действительно Бог. Вы можете сослаться на то, что оно являетсяим по определению и что мы вольны придавать определяемым нами словам тот смысл, какой мы хотим. Допускаю и это тоже, но если вы приписываете слову-смысл, радикально отличающийся от обычного, то это значит, что он применяется к новому объекту; ваши рассуждения не будут больше относиться к старому объекту; стало быть, будет подразумеваться, что вы говорите нам о чем-то другом. Именно так происходит вообще, когда философия говорит о Боге. В этом случае речь настолько мало идет о том Боге, которого имеет в виду большинство людей, что если бы благодаря чуду и вопреки мнению философов определенный таким образом Бог спустился в сферу опыта, то его бы никто не узнал. На самом деле религия, будь она статической или динамической, считает его прежде всего Существом, которое может вступать с нами в отношения; но именно на это неспособен Бог Аристотеля, принятый с некоторыми видоизменениями большинством его последователей. Не входя здесь в углубленное рассмотрение аристотелевской концепции божества, отметим только, что она, на наш взгляд, вызывает два вопроса. 1) Почему Аристотель выдвинул в качестве первоначала неподвижный Двигатель, Мысль, котораямыслит сама себя, заключена в самой себе и действует только благодаря притягательной силе своего совершенства? 2) Почему, устанавливая это первоначало, он назвал его Богом? Но и на первый и на второй вопросы легко ответить: платоновская теория Идей господствовала во всей античной мысли и даже проникла в философию Нового времени; ведь отношение первоначала Аристотеля к миру — то же самое, что Платон устанавливает между Идеей и вещью. Для того, кто видит в идеях лишь продукты социального и индивидуального ума, нет ничего удивительного в том, что идеи, в определенном количестве и неизменные, соответствуют бесконечно разнообразным и изменчивым вещам нашего опыта: в самом деле, мы стараемся найти сходства между вещами, несмотря на их разнообразие, и обрести на них устойчивые взгляды, несмотря на их неустойчивость; мы получаем, таким образом, идеи, которые оказываются в нашем подчинении, тогда как вещи проскальзывают у нас между пальцами.
Все это произведено человеком. Но тот, кто начинает философствовать, когда общество уже весьма далеко продвинулось в своей работе и находит ее результаты, собранные в языке, может прийти в неистовое восхищение от этой системы идей, с которыми, как кажется, сообразуются вещи. Не являются ли они, в своей неизменности, образцами, которые лишь имитируются изменчивыми и подвижными вещами? Не являются ли они подлинной реальностью, а изменение и движение не выражают ли беспрестанную и бесполезную попытку квазинесуществующих вещей, так сказать бегущих друг за другом, совпасть с незыблемостью Идеи? Мы понимаем, таким образом, что, поместив над чувственным миром иерархию Идей, где властвует такая Идея Идей, как Идея Блага, Платон рассудил, что Идеи вообще, и тем более Блага, воздействовали через притягательную силу их совершенства. Точно таков же, согласно Аристотелю, способ воздействия Мысли Мысли, которая известным образом связана с Идеей Идей. Правда, Платон не отождествлял последнюю с Богом: Демиург из «Тимея», организующий мир, отличается от Идеи Блага. Но «Тимей» — диалог мифический; стало быть, Демиург обладает лишь полусуществованием; а Аристотель, отказывающийся от мифов, отождествляет с божеством Мысль, которая, по-видимому, едва ли есть мыслящее существо и которую мы бы назвали скорее Идеей, чем Мыслью. Тем самым Бог Аристотеля не имеет ничего общего с теми богами, которым поклонялись греки; он также почти совсем не похож на Бога Библии, Евангелия. Религия, будь она статической или динамической, представляет философии Бога, который выдвигает совершенно иные проблемы. Тем не менее именно к аристотелевскому Богу обычно^обращается метафизика, рискуя наделить его тем или иным свойством, несовместимым с его сущностью. Почему же она не рассмотрела его истоки? Она бы увидела, как он формировался посредством сжатия всех идей в одну-единственную. Почему не рассмотрела она в свою очередь эти идеи? Она бы увидела, что они способствуют прежде всего подготовке воздействия индивида и общества на вещи, что общество для этого поставляет их индивиду, и возвышение их квинтэссенции в божество состоит просто в обожествлении социального. Почему, наконец, она не проанализировала социальные условия этого индивидуального воздействия и сущность труда, выполняемого индивидом с помощью общества? Она бы установила, что если для упрощения труда, а также для облегчения кооперации мы начинаем со сведения вещей к небольшому числу категорий или идей,переводимых в слова, то каждая из этих идей представляет неподвижное свойство или состояние, взятые на той или иной стадии процесса становления: реальное — это движущееся или, точнее, движение, и мы воспринимаем лишь непрерывные ряды изменения. Но чтобы воздействовать на реальность и, главное, чтобы успешно осуществлять производительный труд, являющийся собственно целью человеческого ума, мы должны фиксировать мыслью остановки, подобно тому как мы ожидаем несколько мгновений замедления или относительной остановки при стрельбе по движущейся мишени. Однако эти моменты покоя, которые являются лишь случаями движения и притом сводятся к чистым видимостям, эти качества, которые являются лишь моментальными фотоснимками, сделанными с движения, становятся в наших глазах реальными и существенными именно потому, что они составляют то, что непосредственно затрагивает наше воздействие на вещи. Покой становится, таким образом, предшествующим и высшим по отношению к движению которое оказывается не более чем возбуждением с целью достижения этого покоя. Неизменность оказывается, таким образом, над изменчивостью, которая есть только некий недостаток, нехватка чего-то, поиск окончательной формы. Более того, именно этим расхождением между пунктом, где вещь находится, и пунктом, где она должна быть, где она хочет быть, будет определяться и даже измеряться движение и изменение. Длительность тем самым становится упадком бытия, время — утратой вечности. Вся эта метафизика заключена в аристотелевской концепции божества. Она состоит в обожествлении и общественного труда, подготавливающего возникновение языка, и индивидуального производительного труда, требующего шаблонов или образцов: ?????[64] (Идея или Форма) — это то, что соответствует этому двойственному труду; Идея Идей или Мысль Мысли оказывается поэтому самим божеством. После такой реконструкции происхождения и значения Бога у Аристотеля можно только удивляться, как современные мыслители, трактуя существование и природу Бога, обременяют себя неразрешимыми проблемами, которые возникают только в том случае, если рассматривать Бога с аристотелевской точки зрения и соглашаться называть этим именем существо, которому люди никогда и не думали молиться.
Способен ли решить эти проблемы мистический опыт? Легко представить себе возражения, которые он может вызвать. Мы отвергли уже те из них, которые состоят в том, чтобы во всяком мистике видеть неуравновешенного человека, а во всяком мистицизме — патологическое состояние. Великие мистики, которыми мы только и интересовались, были деятельными мужчинами и женщинами, с высшим