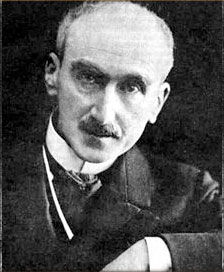«Творческой эволюции». Мы хотели тогда оставаться как можно ближе к фактам. Мы не говорили ничего, чтосо временем не могло быть подтверждено данными биологии. В ожидании этого подтверждения мы пользовались результатами, которые философский метод, в том виде, как мы его понимаем, позволял нам считать истинными. Здесь мы находимся лишь в области вероятного. Но мы не устанем повторять, что философская достоверность содержит разные степени, что она обращается как к рассуждению, так и к интуиции, и если интуицию, опирающуюся на науку, можно продолжить, то это возможно осуществить только посредством мистической интуиции. В действительности только что представленные нами выводы естественным, хотя и не фатальным образом дополняют выводы наших предыдущихработ. Творческая энергия, являющаяся любовью и желающая извлечь из самой себя существа, достойные быть любимыми, может распространять, таким образом, миры, материальность которых, будучи противоположной божественной духовности, просто выражает различие между тем, что сотворено, и тем, что творит, между находящимися рядом друг с другом нотами симфонии и неделимой эмоцией, которая извергла их из себя. В каждом из этих миров жизненный порыв и сырая материя оказываются двумя дополняющими друг друга аспектами творения; при этом жизнь обязана материи, сквозь которую она проходит, своим разделением на различные существа, а силы, которые она в себе несет, остаются слитыми воедино в той мере, в какой это позволяет пространственный характер обнаруживающей их материи. Это взаимопроникновение не было возможно на нашей планете; все заставляет думать, что материя, оказавшаяся здесь дополненной жизнью, была малопригодна для того, чтобы способствовать ее порыву. Первоначальный импульс поэтому вызвал расходящиеся линии эволюционного прогресса, вместо того чтобы оставаться неразделенным до конца. Даже на линии, на которой прошла основа этого импульса, он в конце концов исчерпал себя или, точнее, движение, бывшее вначале прямолинейным, превратилось в кругообразное. Человечество, находящееся в крайней точке этой линии, вращается в этом кругу. Таков был наш вывод. Чтобы не дополнять его произвольными допущениями, мы должны были просто последовать путем, указанным мистиком. Жизненный поток, проходящий сквозь материю и, несомненно, составляющий смысл ее существования, мы рассматривали просто как данное. Относительно человечества, находящегося в крайней точке главного направления, мы не задавались вопросом, существует ли у него иная цель, помимо него самого. Мистическая интуиция ставит оба эти вопроса, одновременно отвечая на них. К существованию были призваны существа, предназначенные любить и быть любимыми, поскольку творческая энергия должна была определяться любовью. Отличные от Бога, являющегося самой этой энергией, они могли появиться только во Вселенной, и поэтому появилась Вселенная. В той частице Вселенной, которой является наша планета, вероятно во всей нашей планетарной системе, подобные существа, чтобы возникнуть, должны были составить биологический вид, и этот вид обусловил возникновение бесчисленного множества других, которые явились его подготовкой, поддержкой или остатком. Возможно, в других местах существуют только радикально отличные друг от друга индивиды, если предположить, что они также многочисленны и также смертны; возможно также, они были образованы в таком случае сразу и полностью. На земле, во всяком случае, вид, составляющий смысл существования всех других видов, лишь частично является самим собой. Он и не помышлял бы о том, чтобы целиком стать самим собой, если бы некоторым его представителямне удалось, посредством индивидуального усилия, прибавившегося к общей работе жизни, сломать сопротивление, оказываемое орудием, одержать верх над материальностью — словом, найти Бога. Эти люди — мистики. Они открыли путь, по которому смогут пойти другие люди. Они тем самым указали философу, откуда и куда движется жизнь.
откуда и куда движется жизнь. Люди неустанно повторяют, что человек мало что значит на земле, а земля — во Вселенной. Тем не менее даже своим телом человек занимает далеко не столь ничтожное место, которое ему обычно отводят и которого удостоил его сам Паскаль, когда сводил «мыслящий тростник» материально лишь к тростнику и не более того. Ведь если наше тело — к которой прилагается наше сознание, оно соразмерно нашему сознанию, оно включает в себя все, что мы воспринимаем, оно доходит до самых звезд. Но это огромное тело непрерывно изменяется, и иногда радикально, из-за малейшего смещения той части самого себя, которая занимает его центр и помещается в незначительном пространстве. Это внутреннее и центральное, относительно неизменное тело всегда присутствует. Оно не только присутствует, но и действует: именно благодаря ему и только благодаря ему мы можем двигать другими частями большого тела. А поскольку действие — это то, что принимается в расчет, поскольку считаеисяу что мы находимся там, где мы действуем, мы привыкли заключать сознание в малое тело и игнорировать тело огромное. В этом мы как будто находим поддержку науки, которая считает внешнее восприятие эпифеноменом соответствующих ему внутримозговых процессов; все, что мы воспринимаем из большого тела, стало быть, оказывается лишь призраком, спроецированным вовне меньшим телом. Мы показали уже иллюзию, заключенную в этой метафизике[70].Если поверхность нашего весьма малого организованного тела (организованного именно с целью непосредственного действия) — это место наших реальных теперешних действий, то наше величайшее неорганическое тело — это место наших потенциальных и теоретически возможных действий; поскольку перцептивные центры мозга освещают и подготавливают эти потенциальные действия и внутри намечают их план, то все происходит так, как будто наши внешние восприятия были, сконструированы нашим мозгом и спроецированы им в пространство. Но истинно совершенно иное, и мы реально находимся во всем, что мы воспринимаем, хотя и такими частями самих себя, которые непрерывно меняются и в которых помещаются только потенциально возможные действия. Посмотрим на вещи под этим углом зрения, и мы не станем больше говорить даже о нашем теле, что оно затерялось в необъятном пространстве Вселенной.
Правда, когда говорят о малости человека и величии Вселенной, то имеют в виду сложность последней, во всяком случае, в той же мере, что и ее величину. Личность производит впечатление простого существа; материальный мир своей сложностью бросает вызов самому смелому воображению: мельчайшая частица материи сама по себе уже целый мир. Как можем мы в таком случае предположить, что последний существует только ради личности? Но не будем пугаться подобного вывода. Когда мы оказываемся перед частями чего-нибудь, перечисление которых может продолжаться до бесконечности, целое, возможно, просто, и дело в том, что мы смотрим на него с неудачной позиции. Передвиньте руку из одной точки в другую: для вас, воспринимающих процесс изнутри, это будет неделимый жест. Но я, воспринимающий его извне и фиксирующий свое внимание на пройденной рукой линии, я говорю себе, что сначала надо было преодолеть первую половину расстояния, затем половину другой половины, затем половину остающейся части и так далее; я мог бы продолжать в течение миллиардов веков и никогда бы не мог полностью перечислить все акты, на которые в моих глазах разлагается движение, ощущаемоевами как неделимое. Так и деяние, порождающее человеческий род или, шире, объекты любви, для Творца вполне могут требовать условий, требующих других условий, которые последовательно влекут их за собой до бесконечности. Невозможно без головокружения думать об этом бесчисленном множестве; но оно составляет лишь изнанку неделимости. Правда, бесконечно множественные акты, на которые мы разлагаем жест руки, являются чисто возможными, необходимо детерминированными в своей возможности реальностью жеста, тогда как составные части Вселенной и части этих частей — это реальности; когда они являются живыми, они обладают самопроизвольностью, которая может доходить до свободной деятельности. Поэтому мы не утверждаем, что отношение сложного к простому одно и то же в обоих случаях. Мы хотели только показать этим сравнением, что сложность, даже безграничная, не является признаком важности и что существование простого может требовать условий, сцепление которых бесконечно.
Таков наш вывод. Поскольку он приписывает такое важное место человеку и такое значение жизни, он может показаться вполне оптимистическим. Сразу же возникнет картина страданий, охватывающих сферу жизни, начиная от низших степеней сознания до человека. Нам нет нужды особо отмечать, что среди животных это страдание далеко не то,что думают; не доходя до теории животного-машины Декарта, можно предположить, что боль значительно снижается у существ, не обладающих активной памятью, не продолжающих свое прошлое в своем настоящем и не являющихся полностью личностями; их сознание сомнамбулическое по природе; ни удовольствия, ни страдания у них не имеют столь глубокого и длительного резонанса, как у нас: разве мы считаем реальными страдания, испытанные нами во сне? И разве у самого человека физическое страдание не вызывается часто неосторожностью и легкомыслием, или слишком утонченными вкусами, или искусственными потребностями? Что касается морального страдания, то оно по крайней мере столь же часто причиняется по нашей вине, и в любом случае оно не было бы столь острым, если бы мы не перевозбуждали нашу чувственность до такой степени, что она становится болезненной; наше страдание бесконечно продолжается и умножается нашей рефлексией о нем.
Словом, было бы нетрудно добавить несколько параграфов к «Теодицее» Лейбница. Но у нас нет ни малейшего желания делать это. Философ может находить удовольствие в том, чтобы предаваться спекуляциям такого рода в тиши своего кабинета; но что станет он думать об этом в присутствии матери, увидевшей только что смерть своего ребенка? Нет, страдание — это ужасная реальность, и не выдерживает критики оптимизм, который, даже сводя зло к тому, чем оно действительно является, определяет его a priori как наименьшее добро. Но существует эмпирический оптимизм, который состоит просто в констатации двух фактов: во-первых, человечество считает жизнь в целом благом, поскольку оно ею дорожит; во-вторых, существует безоблачная радость, находящаяся по ту сторону удовольствия и страдания, которая представляет собой конечное состояние мистической души. В этом двояком смысле и с этой двоякой точки зрения оптимизм заставляет признать себя, не требуя от философа, чтобы он отстаивал дело Бога. Могут сказать, что если жизнь и является благом в целом, то все- таки без страдания она была бы лучшей, и что Бог любви не мог желать страдания. Но ничто не доказывает, что страдание было результатом желания. Мы отмечали, что то, что с одной стороны представляется как огромная множественность вещей, в числе которых действительно есть страдание, может с другой стороны представляться как неделимый акт, так что уничтожить одну часть — значит уничтожить целое. Могут в таком случае возразить, что целоемогло бы быть другим, таким, чтобы страдание не составляло его часть; что, следовательно, жизнь, даже если она благо, могла бы быть лучшей. Отсюда могут заключить, что если действительно существует первооснова и если эта первооснова есть любовь, то она