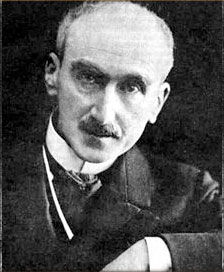обновления совершенно не требовалось бы творческого усилия. Истина заключается в том, что можно всегда взять последнюю фазу обновления, определить ее через какое- нибудь понятие и сказать, что остальные содержали большее или меньшее количество того, что содержит в себе это определение, что, следовательно, все они были продвижением к нему. Но явления принимают такую форму лишь ретроспективно; изменения были качественными, а не количественными; они не поддавались никакому предвидению. В одном отношении, однако, они представляли не- что общее сами по себе, а не только в своем понятийном выражении. Все они хотели открыть то, что было закрыто; группа, которая со времени предыдущего открытия замыкалась в самой себе, каждый раз возвращалась к человечеству. Пойдем дальше: эти последовательные усилия не были именно прогрессивным осуществлением идеала, поскольку никакая идея, придуманная заранее, не могла представлять совокупность достижений, каждое из которых, творя себя, творило свою собственную идею; и тем не менее разнообразие усилий на самом деле может свестись к одному: порыву, который породил ранее закрытые общества, потому что он не мог больше увлекать за собой материю, но затем стал искать и вновь находить, за отсутствием вида, ту или иную особо одаренную индивидуальность. Этот порыв продолжается, таким образом, через посредство некоторых людей, каждый из которых образует вид, состоящий из одного- единственного индивида. Если индивид полностью осознает это, если бахрома интуиции, окружающая его ум, в достаточной мере увеличивается, чтобы охватывать ее объект, то это мистическая жизнь. Возникшая таким образом динамическая религия противостоит статической религии, происшедшей из мифотворческой функции, так же как открытое общество противостоит обществу закрытому. Но точно так же, как новое моральное стремление обретает плоть, лишь заимствуя у закрытого общества его природную форму, каковой является обязанность, так и динамическая религия распространяется только через образы и символы, обеспечиваемые мифотворческой функцией. Возвращаться к этим различным положениям нет смысла. Мы хотели просто подчеркнуть различие, проведенное выше между открытым обществом и обществом закрытым.
Если мы сосредоточимся на этом различии, то мы увидим, как одни крупные проблемы исчезнут, другие предстанут в новом свете. Когда мы занимаемся критикой или апологией религии, всегда ли мы отдаем себе отчет в том, что специфически религиозного имеется в религии? Мы нежно любим или опровергаем рассказы, в которых она, возможно, нуждается, чтобы достигнуть того состояния души, которое распространяется; но религия главным образом есть само это состояние. Мы обсуждаем выдвигаемые ею определения и излагаемые ею теории; она действительно воспользовалась метафизикой с тем, чтобы обрести определенную форму; но в крайнем случае она могла принять другую форму или даже не принимать никакой. Ошибочно думать, что можно посредством увеличения или усовершенствования перейти от статического к динамическому, от доказательства или мифотворчества, даже правдоподобных, к интуиции. Таким образом вещь смешивается с ее выражением или символом. Таково обычное заблуждение радикального интеллектуализма. Мы обнаруживаем его и тогда, когда переходим от религии к морали. Есть мораль статическая, существующая как факт в данный момент, в данном обществе; она закрепилась в нравах, идеях, институтах; ее обязательный характер в конечном счете сводится к природному требованию совместной жизни людей. Существует, с другой стороны, динамическая мораль, которая является порывом и связана с целостной жизнью, творящей природу, которая сотворила социальную потребность. Первая обязанность, являющаяся принуждением, субрациональна. Вторая, являющаяся стремлением, суперрациональна. Но появляется ум. Он ищет мотив каждого из предписаний, то есть его интеллектуальное содержание; а поскольку ум систематизирует, то он думает, что проблема состоит в сведении всех моральных мотивов к одному- единственному. Ему остается, впрочем, лишь выбрать из них наиболее ему подходящий. Общий интерес, личный интерес, самолюбие, симпатия, со- страдание, логическая связность и т. д. — нет такого принципа действия, из которого нельзя было бы вывести почти всю общепринятую мораль. Правда, легкость подобной операции и сугубо приблизительный характер даваемого ею результата должны были бы заставить нас отнестись к ней с осторожностью. Если почти одинаковые правила поведения извлекаются как попало из столь различных принципов, то это, вероятно, потому, что ни в одном из этих принципов не были выявлены его специфические характеристики. Философ стал искать их в социальной среде, где все проникает друг в друга, где эгоизм и тщеславие проникнуты социальностью; нет ничего удивительного в том, что в каждом из этих принципов он находит ту мораль, которую он там поместил или оставил. Но сама мораль остается необъясненной, поскольку необходимо было бы тщательно изучить социальную жизнь как дисциплину, требуемую природой, а самое природу — как сотворенную жизнью в целом. Таким образом мы пришли бы к самим корням морали, которые напрасно ищет чистый интеллектуализм; последнийможет лишь давать советы, приводить доводы, которые вполне могут быть оспорены другими доводами. На самом деле он всегда подразумевает, что мотив, на который он ссылается, «предпочтительней» других, что между мотивами имеются ценностные различия, что существует общий идеал, с которым соотносится реальность.
Таким образом, он оставляет за собой убежище в платоновской теории, в Идее Блага, которая господствует над всеми остальными: мотивы деятельности выстраиваются подИдеей Блага, так что лучшими оказываются те, которые ближе всего к ней; притягательная сила Блага оказывается принципом обязанности. Но в таком случае трудно сказать, по какому признаку мы узнаем, что поведение более или менее близко к идеальному Благу: если бы мы это знали, этот признак оказался бы главным, и Идея Блага стала бы бесполезной. Было бы также трудно объяснить, как этот идеал создает повелительную обязанность, особенно самую строгую из всех обязанностей, ту, которая связана с обычаем в первобытных обществах, являющихся главным образом закрытыми. Истина заключается в том, что идеал не может становиться обязательным, если он не является уже действующим; и в таком случае обязывает не его идея, а его действие. Или, точнее, он лишь слово, которым мы обозначаем предполагаемый конечный результат этого действия, ощущаемого как непрерывное, гипотетический конечный пункт движения, который уже возвышает нас. В основе всех теорий мы находим, таким образом, две иллюзии, о которых мы много раз заявляли. Первая, весьма распространенная, состоит в том, что движение представляется как постепенное уменьшение промежуточного расстояния между положением движущегося объекта, являющимся неподвижностью, и его конечным пунктом, считающимся достигнутым и также являющимся неподвижностью, тогда как подобные положения — это лишь точки зрения сознания на неделимое движение: отсюда невозможность реконструировать истинную подвижность, то есть в данном случае стремления и давления, прямо или косвенно составляющие обязанность. Вторая иллюзия более специально касается эволюции жизни. Поскольку известный эволюционный процесс наблюдался начиная с определенного пункта, то думают, что этот пункт был достигнут точно таким же эволюционным процессом, тогда как предшествующая эволюция могла бытьиной, тогда как до того там могло даже вообще не быть эволюции. Поскольку мы отмечаем постепенное обогащение морали, то мы думаем, что не было первоначальной, не сводимой ни к какой другой, морали, появившейся вместе с человеком. Необходимо, однако, признать эту исходную мораль, возникшую одновременно с человеческим родом, и предположить, что вначале существовало закрытое общество.
Может ли в таком случае различение закрытого и открытого, необходимое для решения или упразднения теоретических проблем, помочь нам практически? Оно оказалось бы не очень полезным, если бы закрытое общество постоянно формировалось, закрываясь после каждого своего мгновенного открытия. В таком случае, как бы бесконечно далеко мы ни углублялись в прошлое, мы никогда не придем к первоначальному состоянию; природное окажется лишь упроченным приобретенным. Но, как мы только что сказали, истина совершенно в ином. Существует фундаментальная природа, и существуют приобретения, которые, добавляясь к природе, ей подражают, не сливаясь с ней. Двигаясь шаг зашагом, мы можем дойти до первоначального закрытого общества, общий план которого соответствовал бы характерным чертам нашего вида так же, как муравейник соответствует муравью, с той разницей, однако, что во втором случае заранее даны детали социальной организации, тогда как в первом имеются только основные линии, некоторые направления природного прообраза, как раз достаточные для того, чтобы сразу же обеспечить индивидам надлежащую социальную среду. Познание этого плана представляло бы сегодня сугубо исторический интерес, если бы его предписания были вытеснены другими. Но природа неразрушима. Ошибочно было сказано: «Прогоните природу, и она вернется галопом»[71],так как природа не поддается изгнанию. Она всегда присутствует. Мы подробно останавливались на вопросе о передаче приобретенных признаков. Маловероятно, чтобы привычка когда-нибудь наследственно передавалась: если подобный факт и имеет место, то в связи со случайной встречей такого значительного множества благоприятных условий, что он безусловно не повторится достаточно часто, чтобы внедрить привычку в биологический вид. Именно в нравах, в институтах, даже в языке располагаются моральные приобретения; они передаются затем непрерывным воспитанием: так переходят от поколения к поколению привычки, о которых в конце концов думают как о наследственных. Но все способствует ложному истолкованию: неправильно понятое самолюбие, поверхностный оптимизм, ошибочное понимание истинной природы прогресса, наконец и главным образом, весьма распространенное смешение врожденной склонности, которая действительно передается от родителей к детям, и приобретенной привычки, которая часто прибавляется к природной тенденции. Не вызывает сомнений, что эта вера давила на самое позитивную науку, которая восприняла ее из обыденного сознания, несмотря на ограниченное число и спорный характер привлекаемых в поддержку фактов, а затем отправила ее обратно обыденному сознанию, усилив ее своим неоспоримым авторитетом. Нет ничего более поучительного в этом отношении, чем биологические и психологические произведения Герберта Спенсера. Они почти целиком основаны на идее наследственной передачи приобретенных признаков. И во времена популярности его творчества она пропитала собой эволюционизм ученых. Но она была у Спенсера лишь развитием положения относительно социального прогресса, представленного в его первых трудах: первоначально его интересовало исключительно изучение общества; лишь позже он пришел к изучению явлений жизни. Так что социология, воображающая, что она заимствует у биологии идею наследственной передачи приобретенного, только берет обратно отданное ею. Недоказанный философский тезис приобрел обманчивый вид научно достоверного, пройдя через науку, но он остается философией и более чем когда-либо далек от того, чтобы быть доказанным. Ограничимся поэтому установленными фактами и теми вероятными выводами, которые они подсказывают: мы считаем, что если устранить у современного человека то, что поместило в нем непрерывное воспитание, то будет обнаружено, что он идентичен или почти идентичен своим самым отдаленным предкам».[72]
Какой же вывод из этого следует? Поскольку видовые склонности сохраняются неизменными внутри каждого из нас, моралист и социолог не могут их не учитывать. Разумеется, лишь немногим было дано проникнуть сначала под слой приобретенного, затем под слой природы и вернуться в