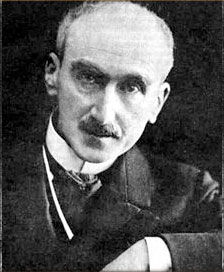происходило в очень далекие времена. Но если и изменилась форма, если христианство положило конец некоторым преступлениям или по крайней мере до- билось, чтобы ими не похвалялись, убийство слишком часто остается ratio ultima, если не prima[74]политики. Безусловно, это чудовищно, но за это природа несет такую же ответственность, как и человек. Природа на самом деле не имеет в своем распоряжении ни тюремного заключения, ни ссылки; она признает лишь смертный приговор. Да позволительно нам будет привести здесь одно воспоминание. Нам пришлось как-то увидеть нескольких видных иностранцев; они приехали издалека, но были одеты как мы, говорили как мы, по-французски; приветливые и любезные, они прогуливались среди нас. Немного времени спустя мы узнали из газеты, что, вернувшись в свою страну, один из них, принадлежащий к иной партии, нежели другой, отправил его на виселицу, использовав при этом весь аппарат правосудия. Сделал он это просто для того, чтобы избавиться от мешавшего ему противника. Рассказ сопровождался фотографией виселицы. Корректного вида светский человек, наполовину обнаженный, раскачивался на глазах толпы. Ужасное зрелище! Это были «цивилизованные» люди, но изначальный политический инстинкт взорвал в них цивилизацию, чтобы пропустить природу. Люди, которые считают, что наказание должно строго соответствовать преступлению, когда имеют дело с виновным, тут же готовы предать смерти невиновного, когда речь идет о политических соображениях. Так рабочие пчелы убивают самцов, когда считают, что улей в них больше не нуждается.
Оставим, однако, в стороне нрав «вождя» и рассмотрим соответствующие чувства управляющих и управляемых. Эти чувства проявятся более четко там, где линия демаркации будет более видимой, в обществе уже значительном по размеру, но выросшем без радикального изменения «естественного общества». Правящий класс, в который мы включаем короля, если он имеется, может рекрутироваться в ходе истории различными методами; но всегда он считает себя принадлежащим к высшей расе. В этом нет ничего удивительного. Что могло бы удивить нас еще больше, если бы мы уже не знали о диморфизме общественного человека, так это то, что сам народ убежден в этом врожденном превосходстве. Несомненно, олигархия старается насаждать чувство этого превосходства. Если она обязана своим происхождением войне, она будет верить и заставлять верить в свои прирожденные военные добродетели, передаваемые от отца к сыну. Она сохраняет, впрочем, реальное превосходство силы благодаря навязываемой ею дисциплине и мерам, принимаемым ею для того, чтобы помешать низшему классу организоваться в свою очередь. Опыт, однако, должен был бы показать в данном случае управляемым, что управляющие — такие же люди, как они. Но инстинкт сопротивляется. Он начинает уступать только тогда, когда сам высший класс его к этому побуждает. Либо он делает это невольно, благодаря очевидной неспособности или столь кричащим злоупотреблениям, что теряет имеющуюся у него веру. Либо побуждение является произвольным, когда те или иные его члены поворачивают против него, часто из-за личного честолюбия, иногда из чувства справедливости: склонившись на сторону низшего класса, они рассеивают тем самым иллюзию, которую поддерживала дистанция между классами. Именно так дворяне сотрудничали с революцией 1789 года, которая уничтожила привилегии от рождения. Вообще инициатива в атаках против неравенства — обоснованного или необоснованного — явилась скорее сверху, из сферы лучше обеспеченных, а не снизу, как можно было бы ожидать, если бы действовали только классовые интересы. Так, именно буржуа, а не рабочие сыграли ведущую роль в революциях 1830 и 1848 годов, направленных (особенно вторая) против привилегий, связанных с богатством. Позднее именно представители образованного класса потребовали образования для всех. Истина заключается в том, что если аристократия верит в свое прирожденное превосходство естественно, религиозно, то уважение, которое она внушает, не менее религиозно, не менее естественно.
Легко понять, таким образом, что человечество пришло к демократии только очень поздно (ибо такие демократии, как античные города-государства, построенные на рабстве, освобожденные благодаря этой фундаментальной несправедливости от наиболее значительных и мучительных проблем, были ложными демократиями). Из всех политических концепций она является в сущности самой удаленной от природы; она единственная, по крайней мере в намерении, выходит далеко за пределы условий жизни «закрытого общества». Она приписывает человеку нерушимые права. Эти права, чтобы оставаться неприкосновенными, требуют от всех непоколебимой преданности долгу.
Поэтому в качестве своего предмета она берет идеального человека, уважающего других как самого себя, приверженного обязанностям, которые он считает абсолютными, столь полно совпадающего с этим абсолютом, что уже нельзя сказать, долг ли дарует права или право навязывает долг. Гражданин, определенный таким образом, является одновременно «законодателем^ и подданным», если выражаться подобно Канту[75].Вся совокупность граждан, то есть народ, стало быть, обладает суверенитетом. Такова теоретическая демократия. Она провозглашает свободу, требует равенства и примиряет этих двух враждебных друг другу родственников, напоминая им, что они родственники, и помещая выше всего братство. Если рассмотреть республиканские лозунги подэтим углом зрения, то можно обнаружить, что третий из них снимает столь часто отмечаемое противоречие между двумя другими и что братство является главным; это позволяет сказать, что демократия является евангелической по своей сути, и ее движущая сила — любовь. Ее эмоциональные истоки можно найти в душе Руссо, философские принципы — в творчестве Канта, религиозную основу — и у Канта, и у Руссо; известно, чем Кант обязан своему пиетизму, а Руссо — общему влиянию протестантизма и католицизма. Американская Декларация независимости (1776), послужившая образцом для Декларации прав человека 1791 года, на самом деле содержала в себе пуританские мотивы: «Мы считаем очевидным…, что все люди одарены своим Создателем некоторыми неотчуждаемыми правами…» и т. д. Возражения, вызванные неопределенностью формулы демократии, вытекают из того, что не был признан ее изначально религиозный характер. Как можно требовать точного определения свободы и равенства, когда будущее должно оставатьсяоткрытым для любого прогресса, особенно для творения новых условий, в которых станут возможны формы свободы и равенства, сегодня неосуществимые, возможно даже непостижимые? Можно лишь наметить общие рамки, они будут все больше наполняться конкретным содержанием, если там будет присутствовать братство. Ата, et fac quod vis[76].Формулой общества недемократического, которое захотело бы, чтобы его лозунги точно, слово в слово, соответствовали лозунгам демократии, было бы: «Авторитарность, иерархия, неподвижность». Такова, стало быть, сущность демократии. Само собой разумеется, что в ней следует видеть просто идеал или, точнее, направление, в котором надо двигаться человечеству. Вначале это главным образом как бы проникающий в мир протест. Каждая фраза Декларации прав человека — это вызов, брошенный какому-то злоупотреблению. Речь шла о том, чтобы покончить с нестерпимыми страданиями. Подводя итог рассмотрению жалоб, представленных в наказах Генеральных штатов, Эмиль Фаге где-то написал, что Революция была совершена не ради свободы и равенства, а просто «потому, что люди околевали с голоду». Если предположить, что это именно так, то надо было бы объяснить, почему начиная с определенного момента люди не захотели больше «околевать с голоду». Тем не менее если Революция сформулировала то, что должно было быть, то это было сделано для того, чтобы устранить то, что было. Но бывает, что намерение, с которым идея была выдвинута, остается незримо связанным с ней, как со стрелой — направление ее движения. Демократические формулы, вначале высказанные в протестующей мысли, ощущались уже при их зарождении. Их находят удобными для того, чтобы препятствовать, отвергать, ниспровергать; труднее извлекать из них позитивное указание на то, что надо делать. Главное, они, будучи абсолютными и квазиевангелическими, применимы только в том случае, если перемещаются в понятия чисто относительной нравственности или, точнее, общей пользы; а перемещение это всегда рискует вызвать искривление в направлении частных интересов. Но бессмысленно перечислять возражения, выдвигавшиеся против демократии, и существующие ответы на них. Мы просто хотели показать в демократическом настрое души великое усилие в направлении, противоположном направлению природы.
Таким образом, мы отметили некоторые черты естественного общества. Они связаны между собой и придают ему облик, который можно легко истолковать. Внутренняя замкнутость, сплоченность, иерархия, абсолютная власть вождя — все это означает дисциплину, военный дух. Захотела ли природа такого явления, как война? Повторим еще раз, что природа ничего не хотела, если понимать под хотением способность принимать особые решения. Но она не может создать животный вид, не очерчивая приблизительно склонности и движения, вытекающие из его структуры и являющиеся продолжениями этой структуры. Именно в этом смысле она их захотела. Она наделила человека умом, производящим орудия. Вместо того чтобы снабдить его инструментами, как она это сделала для множества животных видов, она предпочла, чтобы он их конструировал сам. Человек между тем необходимо является собственником своих инструментов, по крайней мере пока он ими пользуется. Но, поскольку они отделены от него, они могут быть у него отняты; взять их готовыми легче, чем их сделать. Главное, они должны воздействовать на материю, служить орудиями охоты или рыбной ловли, например. Группа, членом которой человек является, может остановить свой выбор на лесном участке, озере, реке; в свою очередь и другая группа может посчитать для себя более удобным обосноваться в этом месте, чем в другом.
Поэтому надо драться. Мы говорим об участке леса, в котором охотятся, об озере, в котором ловят рыбу; точно так же может идти речь об обрабатываемых землях, похищаемых женщинах, уводимых рабах. Точно так же сделанное оправдывается самыми разнообразными доводами. Но какую вещь берут и какой мотив приводят, несущественно: источник войны — собственность, индивидуальная или коллективная, а поскольку человечество предрасположено к собственности своей структурой, война является естественной. Воинственный инстинкт так силен, что он проявляется первым, когда мы соскребаем слой цивилизации, чтобы обнаружить слой природы. Известно, как любят драться маленькие мальчики. Они получают при этом удары. Но они испытывают удовлетворение от того, что наносят их. Справедливо было сказано, что игры ребенка — это подготовительные упражнения, к которым природа призывает его с целью выполнения задачи, возложенной на взрослого человека. Но можно пойти дальше и увидеть подготовительные упражнения или игры в большинстве войн, за- свидетельствованных в истории. Когда мы видим ничтожность мотивов, вызвавших значительное их число, вспоминаются дуэлянты из «Марион Делорм»[77],которые убивали друг друга «ни за что, из удовольствия, или же ирландец, которого цитирует лорд Брайс[78]и который не мог видеть двух людей, обменивающихся кулачными ударами на улице, чтобы не задать вопрос: «Это частное дело или можно вмешаться?» С другой стороны, если поставить рядом со случайными стычками решающие войны, которые привели к уничтожению какого-нибудь народа, то становится понятно, что последние составляли смысл существования первых; потребовался инстинкт войны, а поскольку он существовал для жестоких войн, которые можно назвать