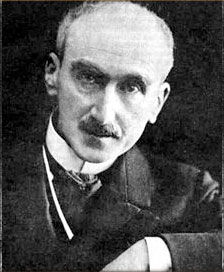иное происхождение, как мы увидим немногодалее) и мы бы рисковали ослабить его, резко отличая его от долга перед нашими согражданами. Для практического действия это полезно. Но философия морали, которая смазывает это различие, проходит мимо истины; этим ее анализ непременно оказывается искаженным. В самом деле, когда мы утверждаем, что долг уважать жизнь и собственность другого есть основное требование общественной жизни, то о каком обществе мы говорим? Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно посмотреть, что происходит во время войны. Убийство и грабеж, так же как и вероломство, мошенничество, обман, становятся не только дозволенными, но и вознаграждаемыми. Воюющие стороны скажут, подобно колдуньям из «Макбета»: «Fair is foul, and foul is fair»[5].
Возможно ли было бы, чтобы так легко произошла полная и мгновенная перемена, если бы это действительно было определенное отношение человека к человеку, которое общество до того нам рекомендовало? О, я знаю, что общество говорит в таком случае (и оно, я повторяю, имеет основания это говорить); но чтобы знать, что оно думает и чего оно хочет, не нужно слишком прислушиваться к тому, что оно говорит, а нужно посмотреть, что оно делает. Оно говорит, что обязанности, определенные им, в принципе как раз и являются обязанностями по отношению к человечеству, но в исключительных обстоятельствах, к несчастью неизбежных, их выполнение оказывается отложенным. Если бы общество не высказывалось подобным образом, оно бы препятствовало прогрессу другой морали, идущей не от него, но с которой оно весьма заинтересовано обращаться бережно. С другой стороны, мы привыкли рассматривать как анормальное то, что относительно редко и необычно, например болезнь. Но болезнь так же нормальна, как и здоровье, которое, с определенной точки зрения, выступает как постоянное усилие предупредить болезнь или избавиться от нее. Точно так же мир до сих пор всегда был подготовкой к обороне или даже к нападению, во всяком случае — к войне. Наши социальные обязанности направлены на укрепление социальной сплоченности; волей- неволей они формируют в нас способ поведения, поддерживающий дисциплину перед лицом врага. Это значит, что человек, к которому общество взывает с целью дисциплинировать его, напрасно был обогащен им всем тем, чего оно достигло за столетия цивилизации; общество, несмотря на это, нуждается в том первобытном инстинкте, который оно покрыло стольгустым слоем лака. Короче говоря, социальный инстинкт, который мы обнаружили в глубине социальной обязанности, стремится всегда — поскольку инстинкт относительно неизменен — к закрытому обществу, каким бы обширным оно ни было. Несомненно, он окутан другой моралью, которую он тем самым поддерживает и отчасти наделяет своей силой: я имею в виду его повелительный характер. Но сам по себе этот инстинкт не направлен на человечество. Дело в том, что между нацией, как бы велика она ни была, и человечеством существует та же огромная дистанция, что отделяет конечное от бесконечного, закрытое от открытого.
Мы часто утверждаем, что школу гражданских добродетелей мы проходим в семье, и точно так же, нежно любя свое отечество, мы приучаемся любить человеческий род. Наша привязанность, таким образом, непрерывно расширяясь, должна была бы расти, оставаясь той же по сути, и в конце концов охватила бы человечество целиком. Это рассуждение a priori, основанное на чисто интеллектуалистской концепции души. Утверждается, что эти три социальные группы, к которым мы можем быть отнесены, включают все большеечисло людей, и из этого делается вывод, что таким последовательным расширениям объекта любви соответствует просто последовательное расширение чувства. Иллюзию к тому же усиливает то, что благодаря удачному совпадению первая часть рассуждения оказывается в согласии с фактами: семейные добродетели тесно связаны с гражданскими по той простой причине, что семья и общество, будучи слиты воедино при своем возникновении, остались в состоянии тесной взаимосвязи. Но между обществом, в котороммы живем, и человечеством в целом существует, повторяем, тот же контраст, что между закрытым и открытым: различие между обоими объектами — сущностное, а не просто количественное. Каким же оно будет, если обратиться к душевным состояниям, если сравнить между собой эти два чувства: преданность отечеству и любовь к человечеству? Кто не понимает, что социальная сплоченность в значительной мере связана с необходимостью для членов данного общества защищаться от других обществ, что прежде всего против всех других людей заключают союз и любят тех людей, с которыми вместе живут? Таков первобытный инстинкт. Он все еще сохраняется, благополучно скрытый под достижениями цивилизации, но и теперь мы естественно и непосредственно любим наших родителей и наших сограждан, тогда как любовь к человечеству носит опосредованный и приобретенный характер. К первым мы идем прямой дорогой, к последнему мы приходим лишь окольным путем, ибо только через Бога, в Боге, религия призывает человека любить человеческий род, точно так же, как через Разум, в Разуме, посредством которого мы все объединяемся, философы демонстрируют нам человечество, чтобы показать нам выдающееся достоинство человеческой личности, право всех на уважение. Ни в первом, ни во втором случаях мы не приходим к человечеству поэтапно, проходя через семью и нацию. Нужно, чтобы мы одним прыжком перенеслись дальше него и, не рассматривая его в качестве цели, обгоняя, достигли его. Говорят ли при этом на языке религии или философии, идет ли речь о любви или об уважении, в любом случае это — другая мораль, другой род обязанности, которые надстраиваются над социальным давлением. До сих пор речь шла только о последнем. Теперь пришло время обратиться к другой морали.
Мы были заняты поисками чистой обязанности. Чтобы ее найти, мы были вынуждены свести мораль к самому простому ее выражению. Преимуществом этого была возможность увидеть, в чем состоит обязанность. Недостатком же такого подхода явилось чрезвычайное сужение морали. Это не значит, конечно, что та ее часть, которую мы оставили в стороне, не носит обязательного характера: можно ли представить себе долг, который бы не обязывал? Ясно, однако, что, хотя в изначальном и чистом виде обязательное и есть то, что сейчас было о нем сказано, обязанность иррадиирует, распространяется и даже растворяется в чем-то ином, преобразующем ее. Посмотрим же теперь, что есть полная мораль. Мы воспользуемся тем же методом и снова будем продвигаться не вниз, а вверх до предела.
Во все времена появлялись исключительные люди, в которых эта мораль воплощалась. До христианских святых человечество знало мудрецов Греции, пророков Израиля, буддийских арагантов и других. Именно к ним всегда обращались за этой полной моралью, которую лучше было бы назвать абсолютной. И даже это само по себе характерно и поучительно. Кроме того, это само по себе заставляет нас сразу почувствовать различие в сущности, а не только в степени, между моралью, о которой шла речь до сих пор, и моралью, к изучению которой мы приступаем, между минимумом и максимумом, между двумя пределами. В то время как первая тем более чиста и совершенна, чем лучше она сводится к безличным формулам, вторая, чтобы полностью быть самой собой, должна воплощаться в исключительной личности, которая становится примером. Всеобщий характер одной связан с универсальным принятием какого-то закона, всеобщий характер другой — с совместным подражанием какому-то образцу.
Возникает вопрос: почему у святых были подражатели и почему великие благородные люди способны увлекать за собой толпы? Они ничего не требуют и не просят и, однако, добиваются своего. Они не нуждаются в увещеваниях и призывах, им достаточно существовать; само их существование. Таков характер этой другой морали. В то время как естественная обязанность — это принуждение или давление, в полной и совершенной морали содержится призыв.
По-настоящему знакомы с природой этого призыва только те, кто оказывался в присутствии выдающейся моральной личности. Но каждый из нас в тот час, когда привычные правила поведения начинают казаться нам несостоятельными, спрашивал себя, чего ожидал бы от него тот или иной человек в подобном случае. Это мог быть кто-нибудь из родственников, друзей, которых мы таким образом мысленно призывали. Но это также вполне мог быть человек, которого мы никогда не встречали, о жизни которого нам просторассказывали и суду которого мы в своем воображении подвергали тогда наше поведение, опасаясь его осуждения, гордясь его одобрением. Это даже могла быть личность, зародившаяся в нас и извлеченная из глубины души на свет сознания; мы чувствовали, что она способна целиком овладеть нами позднее, и хотели последовать за ней сразу же, как ученик следует за учителем. По правде говоря, черты этой личности начинают вырисовываться с того дня, когда был принят некий образец: желание быть похожим, которое идеально порождает будущую форму, уже есть похожесть; слово, которое станет своим, — это то слово, отзвук которого был услышан в себе. Но дело не в личности. Отметим только, что если первая мораль обладает тем большей силой, чем более резко она распадается на безличные обязанности, то последняя, наоборот, раздробленная вначале на общие предписания, которые привлекают наш ум, но не затрагивают волю, становится тем более вдохновляющей, чем лучше многочисленные и общие максимы сольются в целостности и индивидуальности человека.
Откуда же берется у нее эта сила? Каков принцип действия, замещающий здесь естественную обязанность или, скорее, в конце концов ее поглощающий? Чтобы узнать это, посмотрим сначала, какие неявные, подразумеваемые требования нам предъявляются. Обязанности, о которых шла речь до сих пор, — это те, которые нам навязывает социальная жизнь; они обязывают нас скорее перед лицом гражданской общины, нежели перед человечеством. Стало быть, можно сказать, что вторая мораль (поскольку мы определенно различаем две морали) отличается от первой тем, что она человеческая, а не только социальная. И мы будем недалеки от истины. В самом деле, мы видели, что к человечеству невозможно прийти, расширяя свою гражданскую общину: между моралью социальной и моралью человеческой различие не в степени, а в сути. Первая — та, которую мы обычно имеем в виду, когда чувствуем себя обязанными естественным образом. Над этими четко определенными обязанностями мы любим представлять себе другие, более расплывчатые, которые их как бы дополняют. Преданность, самоотдача, дух самопожертвования, милосердие — таковы слова, которые мы произносим, когда думаем об этих других обязанностях. Но думаем ли мы тогда чаще всего о чем-нибудь, кроме слов? Безусловно, нет, и мы прекрасно отдаем себе в этом отчет. Достаточно только того, говорим мы, чтобы там присутствовала формула; она обретет весь свой смысл, идея, которая заполнит ее, станет действующей, когда представится случай. Правда, для многих случай не представится или действие