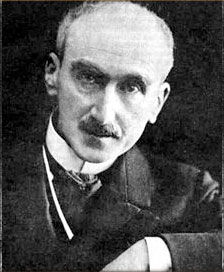если бы последнее имело с первым внутреннее и глубинное сходство, подобное тому, которое существует между двумя одинаково приемлемыми переводами одной и той же музыки в понятия или зрительные образы.
Сказанное означает, что, отводя столь значительное место эмоции в генезисе морали, мы никоим образом не обосновываем некую «мораль чувства». Ведь речь идет об эмоции, способной кристаллизоваться в представления и даже в теоретическое учение. Из этого учения, так же как и из всякого другого, невозможно было бы вывести эту мораль; никакая умозрительная теория не создаст обязанность или что-нибудь ей подобное. Красота теории для меня малосущественна, я всегда смогу сказать, что не принимаю ее и, даже если я ее принимаю, буду стремиться сохранять свободу вести себя по-своему. Но если присутствует эмоциональная атмосфера, если я вдохнул ее, если эмоция пронизывает меня, то, возбужденный ею, я буду действовать сообразно с ней. Не по принуждению или по необходимости, а благодаря склонности, которой я не хотел бы противиться. И вместо того чтобы объяснить свой поступок самой эмоцией, я смогу также вполне вывести его из теории, которую сконструируют путем преобразования эмоции в идею. Мы предварительно пытаемся здесь дать возможный ответ на важный вопрос, с которым мы еще встретимся далее, но с которым только что столкнулись мимоходом. Принято утверждать, что, если религия несет новую мораль, она навязывает ее метафизикой, которую заставляет принять, своими идеями о Боге, о Вселенной, об отношении между ними. В ответ на это было сказано, что, наоборот, благодаря превосходству своей морали религия завоевывает души и открывает их определенным взглядам на вещи. Но признал ли бы ум превосходство предлагаемой ему морали, учитывая, что он может оценить ценностные различия только путем сравнения с правилом или идеалом, а идеал и правило с необходимостью обеспечиваются уже имеющейся моралью? С другой стороны, как новая концепция мирового порядка может быть чем-то иным, кроме как новой философией, наряду с уже известными нам? Даже если наш ум к ней примкнет, мы всегда будем видеть в ней лишь объяснение, теоретически более предпочтительное, нежели другие объяснения. Даже если нам покажется, что она рекомендует нам вроде бы лучше гармонирующие с ней некоторые новые правила поведения, от этой приверженности ума будет очень далеко до обращения воли. Но истина заключается в том, что ни теория, в состоянии чисто интеллектуального представления, не заставит принять мораль и особенно применять ее на практике, ни мораль, рассматриваемая умом как система правил поведения, не сделает интеллектуально предпочтительной теорию. До новой морали, до новой метафизики существует эмоция, которая продолжается в порыве со стороны воли и в объясняющем представлении в области ума. Возьмите, например, эмоцию, принесенную в мир христианством под именем милосердия: если она завоевывает души, то отсюда следует определенное поведение и распространяется определенное учение. Ни эта метафизика не навязала эту мораль, ни эта мораль не заставила предпочесть эту метафизику. Метафизика и мораль выражают одно и то же, одна — в терминах ума, другая — в терминахволи; и оба выражения принимаются вместе, как только этому явлению дали в себе выразиться.
Что добрая половина нашей морали включает в себя обязанности, повелительный характер которых в конечном счете объясняется давлением общества на индивида, с этим согласятся без особых колебаний, потому что эти обязанности выполняются повседневно, потому что они имеют четкую и точную формулировку, и нам легко в этом случае, улавливая целиком их видимую часть и продвигаясь к их корням, обнаружить социальное требование, из которого они произошли. Но что остальная часть морали выражает определенное эмоциональное состояние, что здесь уже не давление, а притяжение, с этим многие согласятся с трудом. Причина этого заключается в том, что здесь мы чаще всего не можем найти в глубине себя первоначальную эмоцию. Имеются формулы, которые являются ее остатком и расположились в том, что можно было бы назвать социальным сознанием, по мере того как утверждалась внутренне присущая этой эмоции новая концепция жизни или, точнее, определенная позиция по отношению к ней. Именно потому, что мы оказываемся перед пеплом погасшей эмоции, а движущая сила этой эмоции исходила от заключавшегося в ней огня, оставшиеся формулы были бы обычно неспособны потрясти нашу волю, если бы более древние формулы, выражающие фундаментальные требования социальной жизни, не сообщали им путем заражения нечто от их обязательного характера.
Эти две рядоположенные морали теперь уже кажутся одной, поскольку первая предоставила второй немного своей повелительности, а в обмен получила от нее значение, менее узкосоциальное и более широкое, общечеловеческое. Но стряхнем пепел: мы увидим еще горячие остатки, и в конце концов вспыхнет искра, огонь может вновь разгореться, а если он разгорится, то постепенно распространится повсюду. Я хочу сказать, что правила этой второй морали не действуют изолированно, как правила первой; как только одно из них, перестав быть абстрактным, наполняется значением и обретает силу для действия, другие стремятся к тому же; в конце концов все они соединяются в пылкой эмоции, некогда оставившей их позади себя, и в испытавших ее людях, которые вновь стали живыми. Среди них основатели и реформаторы религий, мистики и святые, безвестные герои нравственной жизни, встреченные нами на жизненном пути и равные в наших глазах величайшим из людей; увлеченные их примером, мы присоединяемся к ним, как к армии завоевателей. Это и в самом деле завоеватели; они сломали сопротивление природы и возвысили человечество для новых судеб. Таким образом, когда мы рассеиваем кажимость, чтобы коснуться реальности, когда мы отвлекаемся от единой формы, которую благодаря взаимообменам обе морали приняли в понятийном мышлении и языке, мы находим на двух крайних точках этой единой морали давление и стремление: первое тем совершеннее, чем оно безличнее, чем оно ближе к естественным силам, называемым привычкой и даже инстинктом; второе тем мощнее, чем более явно оно вызывается в нас личностями, чем лучше в наших глазах оно одерживает верх над природой. Правда, если спуститься к истокам самой природы, то мы, возможно, заметим, что это одна и та же сила, которая, будучи замкнута на самой себе, проявляется прямо в уже сложившемся человеческом роде, а затем воздействует косвенно, через посредство исключительных индивидуальностей, чтобы двинуть человечество вперед.
Но нет никакой надобности прибегать к метафизике, чтобы определить отношение этого давления к этому стремлению. Отметим еще раз: существует определенная трудность в сравнении между собой обеих моралей, потому что они не проявляются больше в чистом виде. Первая передала второй нечто от своей принудительной силы; вторая распространила на первую немного своего аромата. Мы наблюдаем ряд постепенных возвышений или снижений сообразно тому, как рассматриваются предписания морали — начинаяс одной крайней точки или с другой. Что касается обоих крайних пределов, то они представляют скорее теоретический интерес; в действительности они почти никогда не достигаются. Рассмотрим тем не менее в отдельности, сами по себе, давление и стремление. Первому внутренне присуще воспроизведение общества, стремящегося только к самосохранению: кругообразное движение, в которое оно вовлекает вместе с собой индивидов, происходящее на одном месте, отдаленно, через посредство привычки, имитирует неподвижность инстинкта. Чувством, характеризующим сознание этой совокупности чистых, в идеале полностью выполненных обязанностей, было бы состояние индивидуального и социального благополучия, близкого тому, которое сопровождает нормальное функционирование жизни. Оно скорее походило бы на удовольствие, чем на радость. В морали стремления, наоборот, неявно присутствует чувство прогресса. Эмоция, о которой мы говорили, — это энтузиазм движения вперед, энтузиазм, благодаря которомуэта мораль принимается некоторыми и затем через них распространяется по свету. «Прогресс» и «движение вперед», впрочем, здесь неотличимы от самого энтузиазма. Чтобы осознать их, необязательно представлять себе предел, к которому мы стремимся, или совершенство, к которому мы приближаемся. Достаточно того, чтобы в радости энтузиазма было нечто большее, чем удовольствие благополучия: ведь это удовольствие не содержит в себе эту радость, а последняя охватывает и даже поглощает в себе это удовольствие. Мы чувствуем это, и достигнутая таким образом уверенность, весьма далекая от метафизики, придаст этой метафизике наиболее прочную опору.
Но до этой метафизической теории и гораздо ближе к непосредственно испытанному нами существуют простые представления, извергающиеся здесь из эмоции по мере ее наполнения. Мы говорили об основателях и реформаторах религий, мистиках и святых. Вслушаемся в их язык: он лишь переводит в представления особую эмоцию души, которая открывается, порывая с природой, закрывавшей ее одновременно в самой себе и в гражданской общине.
Они говорят прежде всего, что то, что они испытывают, — это чувство освобождения. Благополучие, удовольствия, богатство — все, что привлекает большинство людей, оставляет их равнодушными. Освободившись от этого, они испытывают облегчение, затем радость. Дело не в том, что природа была неправа, привязав нас крепкими узами к предназначенной ею для нас жизни. Но речь идет о том, чтобы идти дальше; и тогда удобства, обеспечивающие хорошее самочувствие дома, превращаются в стеснительные путы, становятся громоздким багажом, если требуется взять их с собой в путешествие. Можно было бы удивляться тому, что душа, ставшая таким образом более подвижной, более склонна к сопереживанию с другими душами и даже со всей природой, если бы относительная неподвижность души, вращающейся в кругу закрытого общества, как раз не была связана с тем, что природа раздробила человечество на различные индивидуальности самим актом создания человеческого рода. Как всякий акт создания какого-нибудь биологического вида, это была остановка. Возобновляя движение вперед, мы приостанавливаем решение об остановке. Правда, чтобы достичь полного результата, следует увлечь за собой остальную часть людей. Но если некоторые движутся, а другие убеждаются в том, что при случае сделают то же самое, это уже много: с этих пор, с началом осуществления, имеется надежда, что в конце концов круг будет разорван. Во всяком случае, мы еще раз подчеркиваем, достигается это не проповедью любви к ближнему. Невозможно охватить человечество путем расширения более узких чувств. Напрасно наш ум убеждал сам себя, что таково естественное развитие, все развивалось иначе. То, что просто с точки зрения нашего рассудка, необязательно просто для нашей воли. Там, где логика говорит, что определенный путь будет кратчайшим, появляется опыт и находит,что в указанном направлении вообще нет пути. Истина заключается в том, что здесь нужно пойти путем героизма, чтобы прийти к любви. Впрочем, героизм не проповедуется; ему достаточно проявиться, и само его присутствие сможет привести других людей в движение.