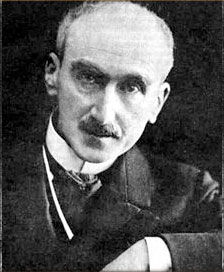когда направлено на самого себя. Ограничиваясь лишь самой поверхностью, оно не проникает дальше той оболочки людей, которой они между собой соприкасаются и которой могут походить друг на друга. Дальше оно не пойдет. И даже если бы оно могло пойти дальше, это было бы нежелательным, потому что никакой пользы от этого не будет. Проникнуть слишком глубоко в человеческую личность, связать внешние действия с очень глубокими внутренними причинами — значило бы ослабить и даже вовсе принести в жертву все, что есть смешного в этом действии. Чтобы у нас явилось желание посмеяться над ним, его причина должна находиться в средней области человеческой души. Необходимо, следовательно, чтобы это действие явилось нам как нечто среднее, присущее человеку среднего разбора. И, как и всякая средняя, эта средняя получается посредством сближения разрозненных данных, посредством сравнения аналогичных случаев, сущность которых подлежит проявлению, — словом, посредством работы абстракции и обобщения, подобной той, которую проделывает физик над фактами, чтобы вывести из них законы. Словом, метод и предмет здесь те же по своей природе, что и в индуктивных науках, в том смысле, что наблюдение всегда остается внешним и результат его всегда поддается обобщению.
Мы приходим, таким образом, длинным обходным путем к двойному заключению, которое наметилось в течение нашей работы. С одной стороны, личность может быть смешной лишь известной своей наклонностью, похожей на рассеянность, — чем-то, что живет ею, не сливаясь с нею воедино, как живет паразит; вот почему эта наклонность наблюдается извне и может быть исправлена. Но, с другой стороны, так как целью смеха служит именно исправление, полезно, чтобы исправление сразу распространялось на возможно большее число лиц. Вот почему наблюдательность, ищущая комического, инстинктивно обращается к общему. Она выбирает среди особенностей те, которые способны воспроизводиться и которые, следовательно, не связаны неразрывно с индивидуальностью личности, — особенности, так сказать, общие. Перенося их на сцену, она создает творения, которые, без сомнения, принадлежат искусству тем, что сознательно стремятся только к тому, чтобы нравиться, но отличаются от других произведений искусства своим характером общности, как и бессознательным своим стремлением исправлять и поучать. Мы имели, следовательно, право сказать, что комедия занимает промежуточное место между искусством и жизнью. Она не бескорыстна, как искусство чистое. Организуя смех, она принимает общественную жизнь как естественную среду; она следует одному из велений общественной жизни. В этом смысле она поворачивается спиной к искусству, которое представляет собою разрыв с обществом и возвращение к первозданной природе.
II
Теперь посмотрим, на основании всего предшествующего, что надо сделать, чтобы создать идеально комический характер, комический сам по себе, комический по своему происхождению, комический во всех своих проявлениях. Комическая складка характера должна быть глубокой, чтобы дать комедии устойчивое содержание, и вместе с тем поверхностной, чтобы сохранился общий тон комедии, невидимой тому, кто этой складкой обладает, потому что комическое всегда бессознательно; видимой для всех остальных, чтобы вызывать всеобщий смех; полной снисходительности к самой себе, чтобы без всяких стеснений развертываться передо всеми; стесняющей для других, чтобы они давили на нее без сожаления; немедленно исправимой, чтобы смех над ней не был бесполезен; постоянно возрождающейся в новом виде, чтобы смех мог постоянно действовать; неотделимой от общественной жизни, хотя и невыносимой в обществе, — способной, одним словом, принимать самые разнообразные формы, какие только можно себе представить, соединяться со всеми пороками и даже с некоторыми добродетелями. Вот те многочисленные элементы, которые надо слить воедино. Химик-психолог, которому поручили бы изготовление такого тонкого препарата, был бы, несомненно, несколько разочарован в тот момент, когда ему пришлось бы опорожнить реторту. Он нашел бы, что затратил слишком много труда, чтобы составить смесь, которую можно получить готовой и без издержек, потому что она так же распространена в человеческом обществе, как воздух в природе.
Эта смесь — тщеславие. Я не думаю, чтобы был другой недостаток, более поверхностный и вместе с тем более глубокий. Раны, которые ему наносят, никогда не бывают очень тяжелы и тем не менее почти никогда не заживают. Услуги, оказываемые ему, — это самые мнимые из всех услуг; между тем именно эти услуги оставляют по себе долговременную признательность. Само по себе оно едва ли даже порок, и тем не менее все пороки тяготеют к нему и, усиливаясь, стремятся стать только средством к удовлетворению тщеславия. Порожденное общественной жизнью, потому что оно не что иное, как восхищение собою, основанное на предполагаемом восхищении других, оно более естественно, в большей степени присуще каждому от рождения, чем эгоизм, потому что над эгоизмом часто берет верх природа, между тем как побороть тщеславие нам удается только силою разума. Я не думаю, действительно, чтобы мы рождались скромными, если не называть скромностью также известную, чисто физическую застенчивость, которая, впрочем, гораздо ближе к гордости, чем это принято думать. Истинная скромность может быть только сознательным отношением к тщеславию. Она рождается наблюдением над иллюзиями других и опасением собственных заблуждений. Это как бы осмотрительная наука, ведающая тем, что мы говорим и думаем о себе; цель ее — исправлять, улучшать. Словом, это всегда добродетель, которую можно выработать в себе.
Трудно сказать, в какой именно момент стремление стать скромным отделяется от опасения стать смешным. Но это стремление и это опасение вначале, несомненно, неотделимо слиты. Всестороннее исследование иллюзий, порождаемых тщеславием, и смешного, связанного с ними, осветило бы крайне своеобразным светом теорию смеха. Мы увидели бы тогда, что смех с математической правильностью исполняет одну из своих главных функций, состоящую в том, чтобы возвращать к полному сознанию людей тщеславных и рассеянных и создавать таким образом характеры возможно более общительные. Мы увидели бы, как тщеславие, будучи естественным порождением общественной жизни, тем не менее стесняет общество, подобно тому как некоторые легкие яды, выделяемые постоянно нашим организмом, в конце концов отравили бы его, если бы другие выделения не нейтрализовали их действия. Смех неустанно выполняет работу такого же рода. В этом смысле можно было бы сказать, что специфическое лекарство против тщеславия есть смех и что недостаток по преимуществу смешной есть тщеславие. Когда мы говорили о комическом форм и движений, мы показали, как тот или иной простой образ, смешной сам по себе, может вкрасться в другие, более сложные образы и заразить их своим комизмом: таким образом, иногда самые высокие формы комизма объясняются формами самыми низкими. Но явление обратное встречается, пожалуй, еще чаще, и некоторые грубые комические эффекты получаются в результате нисхождения от комизма очень утонченного. Так, тщеславие, эта высшая форма комического, есть элемент, который нам приходится тщательно, хотя и бессознательно, искать во всех проявлениях человеческой деятельности. Мы ищем его хотя бы только для того, чтобы посмеяться над ним. И наше воображение часто находит его там, где ему нечего делать. Я думаю, что таково происхождение самых грубых комических эффектов, которые отдельные психологи очень неудовлетворительно объясняют контрастом: например, маленького роста человек, наклоняющийся, чтобы пройти в высокую дверь; или два человека — один очень высокий, другой очень маленький — важно шествуют под руку и т. д. Вглядитесь хорошенько в эти фигуры, и вам, я думаю, покажется, что более низкий старается приподняться, чтобы стать вровень с более высоким, подобно лягушке, хотевшей сравняться с волом.
III
Мы не можем, конечно, перечислять здесь все черты характера, которые тесно связаны с тщеславием или конкурируют с ним, чтобы привлечь внимание поэта-комика. Мы показали, что смешными могут стать все недостатки, а пожалуй, и некоторые достоинства. Если бы можно было составить список общеизвестных смешных качеств, то комедия могла бы взять на себя труд удлинить его — не в том смысле, что она создала бы чисто фантастические смешные черты, а в том, что она раскрыла бы только некоторые направления комического, которые оставались до тех пор незамеченными. Таким же образом наше воображение может выделять все новые и новые фигуры в сложном рисунке одного и того же ковра. Существенное условие для этого заключается, как мы уже знаем, в том, чтобы замечаемая нами черта характера сразу явилась нам как бы рамой, в которую может поместиться много людей.
Но существуют рамки совершенно готовые, установленные самим обществом, необходимые обществу, потому что оно покоится на известном разделении труда. Я имею в виду здесь ремесла, должности и профессии. Каждая специальная профессия создает у лиц, которые замыкаются в ней, известные навыки ума и особенности характера, которыми они походят друг на друга и отличаются от остальных людей. Маленькие общества образуются, таким образом, в недрах большого. Несомненно, они суть результат самой организации общества вообще. А между тем излишнее обособление их может оказаться очень вредным для общественности. И главное назначение смеха заключается в том, чтобы подавлять всякое стремление к обособлению. Его роль — принуждать косность уступать место гибкости, приспособлять каждого ко всем, словом, везде закруглять углы. Мы имеем, следовательно, здесь известный род комического, все разновидности которого могли бы быть определены заранее. Мы назовем его, если угодно, профессиональным комизмом.
Мы не будем останавливаться на подробностях этих разновидностей. Мы предпочитаем остановиться на том, что есть в них общего. В первом ряду стоит профессиональное тщеславие. Каждый учитель г. Журдена ставит свое дело выше всех других. Один из персонажей Лабиша не понимает, как можно быть кем-нибудь иным, кроме как продавцом дров. Это, конечно, продавец дров. Чем большую дозу шарлатанства заключает в себе профессия, тем больше тщеславие будет здесь приближаться к торжественности. Примечательно: чем более спорно данное искусство, тем более лица, занимающиеся им, склонны считать себя облеченными какой-то таинственной властью и требовать, чтобы все преклонялись перед их тайнами. Профессии полезные, как это очевидно для всех, созданы для публики; те же, полезность которых сомнительна, могут оправдать свое существование, только претендуя на то, что публика создана для них; это-то заблуждение и лежит в основе самомнения. Почти весь комизм мольеровских врачей проистекает отсюда. Они обращаются с больными так, будто последние созданы для врачей, и на саму природу смотрят как на придаток к медицине. Другая форма этой комической косности заключается в том, что я назову профессиональной черствостью. Комический персонаж так плотно входит в неподвижную рамку своей профессии, что не может уже свободно двигаться в ней, его уже более ничто не волнует, как других людей. Припомним слова судьи Перрена Дандена в ответ Изабелле, спрашивающей, как можно смотреть на страдания людей:
Так можно скоротать часок, а то и два.[10 — Перевод И. Шафаренко (Примеч. ред.)]
Не своего ли рода профессиональной черствостью является черствость Тартюфа, когда он говорит, правда устами Оргона: