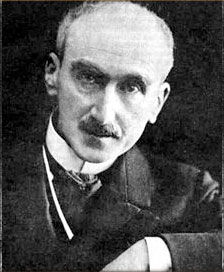Но таковы же в ряду суставчатых насекомые, и в частности перепончатокрылые. Можно сказать, что муравьи являются хозяевами земных недр, как человек — владыка земли.
С другой стороны, возникшая позже видовая группа может быть группой дегенератов, но в этом случае должна существовать особая причина регресса. По идее, эта группа должна быть выше той, от которой она происходит, ибо она соответствует более поздней стадии эволюции. Человек, вероятно, явился последним из позвоночных’. И в ряду насекомых после перепончатокрылых появились только чешуекрылые, то есть, без сомнения, вырождающийся вид, настоящий паразит цветочных растений.
Так разными путями мы пришли к одному и тому же заключению. Эволюция членистоногих достигла своего кульминационного пункта с появлением насекомых, и в частности перепончатокрылых, как эволюция позвоночных — с появлением человека. Если же принять во внимание, что нигде инстинкт не развит так, как в мире насекомых, и что ни в одной группе насекомых он не является столь совершенным, как у перепончатокрылых, то можно сказать, что вся эволюция животного мира, за исключением возвратов к растительной жизни, совершалась по двум расходящимся путям, один из которых вел к инстинкту, другой — к интеллекту.
Растительное оцепенение, инстинкт и интеллект, — вот, таким образом, элементы, совпадающие в жизненном импульсе, общем для растений и животных, и разделившиеся по мере своего роста, проявляясь по пути развития в самых непредвиденных формах. Фундаментальное заблуждение, которое, начиная с Аристотеля, исказило большую часть философий природы, состоит в том, что в жизни растительной, инстинктивной и разумной усматривают три последовательные ступени развития одной и той же тенденции, тогда как это три расходящихся направления одной деятельности, разделившейся в процессе своего роста. Различие между ними не является различием ни в интенсивности, ни в степени: это различие в природе.
Необходимо глубже исследовать этот вопрос. Мы видели, как растительная жизнь и жизнь животная дополняют друг друга и друг другу противополагаются. Теперь нужно показать, что интеллект и инстинкт также противоположны и дополняют друг друга. Но посмотрим вначале, почему в них хотят видеть две деятельности, первая из которых превосходит вторую и следует за ней, тогда как в действительности они не являются ни вещами одного и того же порядка, ни следующими друг за другом, ни такими, которым можно было бы указать определенные места.
Это связано с тем, что интеллект и инстинкт, вначале взаимно проникавшие друг друга, сохраняют кое-что от их общего происхождения. Ни тот, ни другой никогда не встречаются в чистом виде. Мы сказали, что в растении могут пробудиться уснувшие в нем сознание и подвижность животного и что животное живет под постоянной угрозой перевода стрелки на путь растительной жизни. Обе тенденции — растительная и животная — с самого начала так пронизывали друг друга, что между ними никогда не было полного разрыва: одна по-прежнему связана с другой; повсюду мы находим их смешанными: отличие только в пропорции. То же самое относится к интеллекту и инстинкту: нет интеллекта, в котором нельзя было бы обнаружить следов инстинкта, нет и инстинкта, который не был бы окружен интеллектом, как дымкой. Эта-то дымка интеллекта и была причиной стольких заблуждений. Из того, что инстинкт всегда более или менее разумен, и заключили, что интеллект и инстинкт вещи одного порядка, что различие между ними только в сложности и совершенстве, а главное, что один из них может быть выражен в терминах другого. В действительности же они потому лишь сопровождают друг друга, что они друг друга дополняют, и дополняют потому, что различны между собой, ибо то, что инстинктивно и инстинкте, противоположно тому, что разумно в интеллекте.
Не стоит удивляться, что мы останавливаемся на этом вопросе: мы считаем его основным.
Отметим сразу, что различия, которые мы установим, будут слишком резкими именно потому, что мы хотим определить в инстинкте то, что в нем инстинктивно, и в интеллекте то, что в нем разумно, тогда как всякий конкретный инстинкт смешан с интеллектом, а всякий реальный интеллект проникнут инстинктом. Более того: ни интеллект, ни инстинкт не поддаются застывшим определениям: это тенденции, а не готовые вещи. Наконец, не нужно забывать, что в настоящей главе мы рассматриваем интеллект и инстинкт при их выходе из жизни, которая отлагает их по пути своего следования. Жизнь же, какой она проявляется в организме, представляет собой, на наш взгляд, определенное усилие, нацеленное на то, чтобы добиться чего-то от неорганизованной материи. Неудивительно поэтому, что нас поражает именно различие этого усилия в инстинкте и в интеллекте и что мы видим в этих двух формах психической деятельности прежде всего два различных метода действия на инертную материю. Этот несколько узкий способ их анализа имеет то преимущество, что обеспечивает нам объективное средство их различения. Но зато он дает нам только среднее положение интеллекта в целом и инстинкта в целом, положение, вокруг которого тот и другой постоянно колеблются. Вот почему во всем нижеизложенном нужно видеть только схематический рисунок, в котором контуры интеллекта и инстинкта будут проявлены резче, чем нужно, и где нам придется пренебрегать размытостью границ, возникающей одновременно и из-за неопределенности каждого из них, и из-за их взаимопроникновения. В таком темном предмете никакое стремление к свету не может быть излишним. Всегда можно потом смягчить формы, исправить в рисунке излишний геометризм, — словом, заменить прямолинейность схемы гибкостью жизни.
К какому времени относим мы появление человека на Земле? Ко времени производства первого оружия, первых орудий труда. Не забыт еще знаменитый спор, возникший в связи с открытием Буше де Перта в каменоломне Мулен-Киньона. Вопрос был в том, представляла ли находка подлинные топоры или случайно расколовшиеся куски кремня. Но никто ни на минуту не сомневался, что если это были топоры, то это означало наличие интеллекта, а конкретнее, интеллекта человека. С другой стороны, откроем сборник анекдотов о разуме животных. Мы увидим, что наряду со многими поступками, объясняемыми подражанием или автоматической ассоциацией образов, есть и такие, которые мы без колебаний назовем разумными. Прежде всего это относится к тем, которые свидетельствуют о наличии у животного мысли о фабрикации — все равно, примется ли животное само мастерить какой-нибудь грубый инструмент или воспользуется предметом, созданным человеком. Животные, которых по уровню их интеллекта ставят сразу после человека обезьяны и слоны — умеют при случае употреблять искусственные орудия. За ними, но не далеко от них, отводят место тем, которые распознают сфабрикованный предмет; так, к примеру, лисица прекрасно знает, что западня есть западня. Конечно, интеллект присутствует повсюду, где есть логический вывод, но вывод, состоящий в применении прошлого опыта к опыту настоящему, есть уже начало изобретения. Изобретение становится полным, когда оно материализуется в созданном орудии. К этому и стремится интеллект животных, как к своему идеалу. И хотя обычно этот интеллект не доходит еще до того, чтобы создавать искусственные предметы и пользоваться ими, он готовится к этому благодаря тем изменениям, которые он производит в предоставленных ему природой инстинктах. Что же касается человеческого интеллекта, то еще недостаточно обращали внимание на то, что главной его заботой с самого начала было механическое изобретение, что и теперь еще наша общественная жизнь вращается вокруг фабрикации и использования искусственных орудий, что изобретения, которыми, как вехами, отмечен путь прогресса, обозначили также и направление интеллекта. Нам трудно это заметить, ибо перемены в человечестве обычно запаздывают по сравнению с преобразованиями его орудий. Наши индивидуальные и даже социальные привычки довольно долго сохраняются в тех обстоятельствах, для которых они были созданы, так что глубокие последствия какого-либо изобретения становятся заметными лишь тогда, когда оно уже утрачивает свою новизну. Прошло столетие со времени изобретения паровой машины, а мы только теперь начинаем чувствовать то глубокое потрясение, которое оно вызвало в нас. Революция, осуществленная им в промышленности, ничуть не менее всколыхнула и взаимные отношения людей. Возникают новые идеи. Расцветают новые чувства. Через тысячи лет, когда прошлое отодвинется далеко назад и мы сможем различить лишь основные его черты, наши войны и революции покажутся чем-то совсем незначительным, если допустить, что о них еще будут вспоминать, — но о паровой машине со всеми сопутствующими ей изобретениями будут, быть может, говорить, как мы сегодня говорим о бронзе и тесаном камне: она послужит для определения эпохи’. Если бы мы могли отбросить все самомнение, если бы, при определении нашего вида, мы точно придерживались того, что исторические и доисторические времена представляют нам как постоянную характеристику человека и интеллекта, мы говорили бы, возможно, не Horro sapiens, но Homo faber. Итак, интеллект, рассматриваемый в его исходной точке, является способностью фабриковать искусственные предметы, в частности орудия для созда-нияорудия, и бесконечно разнообразить их изготовление.
Зададимся теперь вопросом, владеет ли и неразумное животное орудиями или машинами? Да, конечно, но здесь орудие составляет часть тела, которое его использует. И, соответственно этому орудию, есть инстинкт, который умеет им пользоваться. Конечно, нет необходимости в том, чтобы все инстинкты заключались в естественной способности использовать врожденный механизм. Такое определение неприложимо к инстинктам, которые Ромене назвал «вторичными»; впрочем, и многие «первичные»им не охватываются. Но такое определение инстинкта, как
и то определение, что мы предварительно даем интеллекту, отмечает, по крайней мере, идеальную границу, к которой направлены его многочисленные формы. Часто обращали внимание на то, что большинство инстинктов являются продолжением, или, скорее, завершением самой работы организации. Кто скажет, где начинается деятельность инстинкта, где кончается деятельность природы? В превращениях личинки в куколку и во взрослое насекомое, часто требующих от личинки особых действий и своего рода инициативы, нет резкой демаркационной линии между инстинктом животного и организаторской работой живой материи. Можно сказать как угодно: что инстинкт организует орудия, которыми он будет пользоваться, или что организация продолжается в инстинкте, который должен использовать орган. Самые поразительные инстинкты насекомого только развертывают в движения его особую структуру, и там, где социальная жизнь делит труд между особями и предписывает им, таким образом, различные инстинкты, наблюдается соответствующая разница в структуре: известен полиморфизм муравьев, пчел, ос и некоторых ложно-сетчатокрылых. Итак, если брать только предельные случаи, где отмечается полное торжество интеллекта и инстинкта, то между ними обнаруживается существенное различие: совершенный инстинкт есть способность использовать и даже создавать организованные орудия; совершенный интеллект есть способность фабриковать и употреблять орудия неорганизованные.
Преимущества и недостатки этих двух способов деятельности совершенно очевидны. В распоряжении инстинкта находится приспособленное орудие: это орудие, которое создается и исправляется само собою, которое, как все произведения природы, демонстрирует бесконечную сложность частей и чудесную