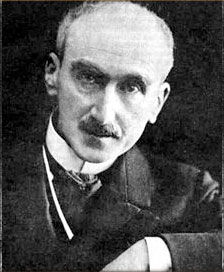обобщают, и знак, будь он даже инстинктивным, всегда в большей или меньшей степени представляет род. Знаки человеческого языка характеризуются не обобщенностью, но подвижностью. Знак инстинкта есть знак приросший, знак интеллекта — подвижный.
Эта-то подвижность слов, созданная для того, чтобы они переходили с одной вещи на другую, и позволила им распространиться с вещей на идеи. Конечно, язык не мог бы сообщить способность размышлять интеллекту, направленному исключительно на внешнее, неспособному обратиться на самого себя. Размышляющий интеллект — это такой, который, помимо практически полезного усилия, имеет еще излишек силы для иных затрат. Это — сознание, которое потенциально уже владеет самим собою. Но нужно еще, чтобы возможность стала действительностью. Можно полагать, что без языка интеллект прилепился бы к материальным предметам, созерцание которых представляло бы для него интерес. Он жил бы в состоянии сомнамбулизма, вне самого себя, гипнотизируемый своей работой. Язык очень способствовал освобождению интеллекта. Слово, созданное для перехода с одной вещи на другую, на самом деле, по сути, свободно и поддается перемещению. Оно может поэтому переходить не только с одной воспринятой вещи на другую, но и с воспринятой вещи на воспоминание о ней, с ясного воспоминания на ускользающий образ, с ускользающего, но все же представляемого образа на представление акта, посредством которой? воспроизводят этот образ, то есть на идею. Так перед глазами интеллекта, глядевшего вовне, открывается внутренний мир, картина собственных процессов. Впрочем, он только и ждал этого случая. Он пользуется тем, что само слово есть вещь, чтобы проникнуть вместе с ним внутрь своей собственной работы. Пусть первым его ремеслом была фабрикация орудий; но она возможна лишь при использовании средств, выкроенных не по точной мерке их предмета, но выходящих за его границы и допускающих, таким образом, для интеллекта труд дополнительный, то есть бескорыстный. С того дня, как интеллект, размышляя о своих действиях, начинает рассматривать себя как созидателя идей, как способность получать представление в целом, нет больше предмета, идею которого он не хотел бы иметь, пусть даже этот предмет и не связан непосредственно с практическим действием. Вот почему мы говорили, что существуют вещи, которые только интеллект может искать. В самом деле, лишь он один заинтересован в теории. И его теория желала бы охватить не только неорганизованную материю, с которой он естественным образом связан, но также жизнь и мышление.
С какими средствами, с какими орудиями, с каким, наконец, методом он приступит к этим проблемам, — мы можем догадаться. С самого начала он приспособляется к форме неорганизованной материи. Сам язык, который позволил ему расширить поле его операций, создан для того, чтобы обозначать вещи, и только вещи; и лишь потому, что слово подвижно, что оно переходит с одной вещи на другую, интеллект должен был рано или поздно захватить его в пути, пока оно еще нигде не закрепилось, чтобы приложить его к такому предмету, который, не будучи вещью и до сей поры скрываясь, ожидал помощи слова, чтобы выйти из мрака на свет. Но слово, покрывая этот предмет, также обращает его в вещь. Таким образом, интеллект, даже когда он и не имеет дела с неорганизован ной материей, следует усвоенным привычкам: он прилагает те же формы, которые присущи неорганизованной материи. Он создан для такого рода работы. Лишь она его и удовлетворяет вполне. Именно это он и выражает, говоря. что только таким путем он достигает отчетливости к ясности.
Таким образом, чтобы мыслить самого себя ясно и отчетливо, интеллект должен видеть себя в форме прерывности. Понятия, действительно, представляются внешними друг другу, как предметы в пространстве. Они стоят же стабильны, как предметы, по образцу которых они создаются. Соединенные вместе, они составляют «умопостигаемый мир», который своими существенными черта ми сходен с миром твердых тел, — только элементы более легки, прозрачны, более удобны для работы с ними интеллекта, чем чистый и простой образ конкретных вещей; это, действительно, уже не само восприятие вещей, но представление акта, с помощью которого интеллект закрепляется на вещах. Стало быть, это уже не образы, но символы. Наша логика есть совокупность правил, которым нужно следовать при работе с символами. Так как эти символы проистекают из созерцания твердых тел, так как правила соединения этих символов выражают самые общие отношения между твердыми телами, то наша логика одерживает победы в науке, предметом которой служит твердость тел, то есть в геометрии. Логика и геометрия, как мы увидим, взаимно порождают друг друга. Из расширения натуральной геометрии, обусловленной общими и непосредственно замечаемыми свойствами твердых тел, вышла натуральная логика, а из нее, в свою очередь, — научная геометрия, бесконечно расширяющая познание внешних качеств твердых тел1 . Геометрия и логика в точности приложимы к материи. Там они на своем месте и могут действовать самостоятельно. Но вне этой области чистое рассуждение нуждается в присмотре здравого смысла, который представляет собой нечто совершенно иное.
Итак, все элементарные силы интеллекта направлены на то, чтобы преобразовать материю в орудие действия, то есть в орган, в этимологическом смысле этого слова. Не довольствуясь лишь созданием организмов, жизнь пожелала дать им, в виде дополнения, саму неорганическую материю, превращаемую благодаря мастерству живого существа в бесконечный орган. Такова задача, которую жизнь прежде всего задает интеллекту. Вот почему он неизменно ведет себя так, словно он был зачарован созерцанием инертной материи. Интеллект — это жизнь, смотрящая во вне, становящаяся внешней относительно самой себя, перенимающая в принципе, приемы неорганизованной природы, чтобы наделе управлять ими. Отсюда изумление интеллекта, когда он обращается к живому и оказывается лицом к лицу с организацией. Как бы он тогда ни принимался за дело, он всегда превращает организованное в неорганизованное, ибо, не нарушая своего естественного направления, не обращаясь против самого себя, он не может мыслить истинную непрерывность, реальную подвижность, взаимопроникновение — словом, творческую эволюцию, которая и есть жизнь.
Если речь идет о непрерывности, — интеллекту нашему, как, впрочем, и чувствам, продолжением которых он является, оказывается доступной лишь та сторона жизни, которая поддается нашему воздействию. Для того, чтобы мы могли изменить предмет, нужно, чтобы он представал нам делимым и прерывным. С точки зрения позитивной науки, беспримерного прогресса достигли в тот день, когда разложили на клетки организованные ткани. Изучение клетки показало, что она, в свою очередь, тоже представляет собою организм, сложность которого явно увеличивается по мере углубления в него. Чем больше наука продвигается вперед, тем больше замечает она рост числа разнородных, внешних по отношению друг к другу элементов, располагающихся рядом для создания живого существа. Подходит ли она таким путем ближе к жизни или, напротив, не отдаляется ли то, что есть собственно жизненного в живом, по мере растущего дробления рядополагающихся частей? Уже и среди ученых наблюдается тенденция рассматривать органическое вещество как непрерывное, а клетку — как нечто искусственное. Но если даже предположить, что этот взгляд в конце концов возьмет верх, его углубление может привести лишь к иному способу анализа живого существа и, следовательно, к новой прерывности, хотя, быть может, менее удаленной от реальной непрерывности жизни. На самом же деле интеллект, отдающийся своему естественному течению, не может мыслить эту непрерывность. Она предполагает одновременно и множественность элементов, и их взаимопроникновение, — два свойства, которые не могут быть примирены в той области, которая служит полем приложения нашего производства, а следовательно, и нашего интеллекта.
Подобно тому, как мы совершаем деление в пространстве, мы останавливаем движение во времени. Интеллект вовсе не создан для того, чтобы мыслить эволюцию в собственном смысле этого слова, то есть непрерывность изменения, которое является чистой подвижностью. Мы не будем останавливаться здесь на этом вопросе, который
предполагаем глубже рассмотреть в особой главе. Скажем только, что интеллект представляет себе становление как серию состояний, каждое из которых однородно и, следовательно, неизменно. Как только наше внимание сосредоточивается на внутреннем изменении одного из этих состояний, мы сейчас же разлагаем его на новую последовательность состояний, которые в соединенном виде образуют внутреннее изменение этого состояния. Каждое из этих новых состояний будет неизменяемым; если же мы заметим их внутреннее изменение, оно тотчас же превратится в новый ряд неизменяемых состояний, и так до бесконечности. Здесь также мыслить значит воссоздаваться, и естественно, что мы воссоздаем из элементов данных — а значит, устойчивых. Таким образом, что бы мы ни делали, как бы мы ни подражали, путем бесконечного сложения, подвижности становления, само становление всегда будет проскальзывать у нас между пальцами, пусть даже нам и покажется, что мы держим его в руках.
Именно потому, что интеллект всегда стремится воссоздавать и воссоздает из данного, он и упускает то, что является новым в каждый момент истории. Он не допускает непредвиденного. Он отбрасывает всякое творчество. То, что определенные предпосылки приводят к определенному следствию, исчисляемому как функция этих предпосылок, — вполне удовлетворяет наш интеллект. То, что определенная цель порождает определенные средства ее достижения, — мы также понимаем. В обоих случаях мы имеем дело с чем-то известным и, в сущности, с прежним, которое повторяется. Здесь наш интеллект чувствует себя привольно. И, каков бы ни был предмет, интеллект будет исключать, разделять, ограничивать, заменяя, если нужно, сам предмет приблизительным эквивалентом, где все будет происходить таким же образом. Но ведь каждый момент что-то приносит с собой, новое бьет беспрерывной струей, и хотя после появления каждой новой формы можно сказать, что она есть действие определенных причин, но невозможно предвидеть то, чем будет эта форма, ибо причины — уникальные для каждого случая — составляют здесь часть действия, оформляются одновременно с ним и определяются им в той же мере, в какой и сами его определяют. Все это мы можем чувствовать в самих себе и угадывать, путем симпатии, вовне, но не можем ни выразить в терминах чистого разума, ни мыслить, в узком смысле этого слова. И это не удивительно, если подумать о назначении нашего разума. Причинность, которую он ищет и повсюду находит, выражается в самом механизме нашего производства, где мы бесконечно составляем одно и то же целое из одних и тех же элементов, где мы повторяем те же движения, чтобы получить тот же результат. Целесообразностью по преимуществу для нашего разума является целесообразность в нашем производстве, где работают по образцу, данному заранее, то есть прежнему или составленному из известных элементов. Что же касается собственно изобретения, которое является, однако, отправным пунктом самого производства, то наш интеллект не в состоянии постичь его ни в его