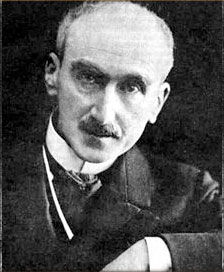не иной. Она берет «вещи в себе», о которых, по ее мнению, мы ничего не можем знать: по какому же праву она утверждает тогда их существование, пусть даже «проблематическое»? Если непознаваемая реальность проецирует в нашу воспринимающую способность чувственное многообразие, которое в точности вписывается в эту способность, то не является ли эта реальность тем самым отчасти познаваемой? И, изучая этот процесс, не придем ли мы к предположению, что между вещами и нашим духом хотя бы в одном пункте существует предустановленное согласие, гипотеза на скорую руку, без которой Кант вполне резонно хотел обойтись? В сущности, именно потому, что Кант не различал степеней в пространственности, он и должен был взять пространство в готовом виде; отсюда возникает вопрос, как «чувственное многообразие» может к нему приспособиться. По той же причине он считал материю полностью развернутой в абсолютно внешние друг другу части: отсюда антиномии, тезис и антитезис которых со всей очевидностью предполагают полное совпадение материи с геометрическим пространством и которые исчезают, как только мы перестаем распространять на материю то, что справедливо в отношении чистого пространства. Отсюда, наконец, вывод о существовании трех и только трех возможностей, между которыми должна делать выбор теория познания: или дух применяется к вещам, или вещи приспосабливаются к духу, или нужно предположить таинственную согласованность между вещами и духом.
Но на самом деле есть и четвертая возможность, которую Кант, очевидно, не принимал во внимание, — ибо он, во-первых, не думал, что область духа шире интеллекта, а во-вторых (что, в сущности, одно и то же), не приписывал длительности абсолютного существования, a priori поставив время на одну доску с пространством. Это четвертое решение состоит прежде всего в том, чтобы рассматривать интеллект как особую функцию духа, направленную главным образом на инертную материю. Затем оно заключается в признании того, что ни материя не определяет формы интеллекта, ни интеллект не предписывает своей формы материи, ни оба они — интеллект и материя — не применяются друг к другу в силу какой- то предустановленной гармонии, — но что интеллект и материя последовательно приспосабливались друг к другу, чтобы в конце концов прийти к одной общей форме. Это приспособление должно было к тому же происходить вполне естественно, ибо одна и та же инверсия одного и того же движения создала одновременно интеллектуальность духа и материальность вещей.
С этой точки зрения, знание о материи, даваемое, с одной стороны, нашим восприятием, а с другой — наукой, является, конечно, приблизительным, но не относительным. Наше восприятие, роль которого состоит в освещении наших действий, осуществляет рассечение материи, всегда слишком отчетливое, подчиненное нуждам практики, а значит, требующее пересмотра. Наша наука, стремящаяся принять математическую форму, чересчур подчеркивает пространственность материи; поэтому ее схемы обычно слишком точны и к тому же всегда нуждаются в переработке. Чтобы научная теория достигла завершенности, дух должен был бы охватить сразу всю совокупность вещей и определенным образом расположить их относительно друг друга; но в действительности мы вынуждены выражать проблемы, одну за другой, в понятиях, неизбежно носящих временный характер, так что решение каждой проблемы бесконечно исправляется решением следующих, и наука в целом является относительной, завися от случайного порядка, в котором поочередно ставились проблемы. В этом смысле и в этой мере науку и следует считать условной. Но условность ее, скажем так, de facto, а не de jure. В принципе, позитивная наука касается самой реальности, если только она не покидает своей области — инертной материи.
Рассматривая таким образом научное познание, мы возвышаем его. Но зато теория познания становится делом бесконечно сложным и превосходящим силы чистого интеллекта. Действительно, недостаточно лишь определить, с помощью тщательного анализа, категории мысли: нужно показать их происхождение. Что касается пространства, то нужно усилием духа sui generis следовать за прогрессивным, или, вернее, за регрессивным движением внепространстве иного, нисходящего в пространственность. Поднявшись вначале как можно выше в нашем собственном сознании, чтобы затем постепенно спускаться, мы ясно чувствуем, что наше я, напрягшееся было в неделимом и действующем волевом акте, развертывается в инертные, внешние друг другу воспоминания. Но это лишь начало. Наше сознание, очерчивая движение, показывает нам его направление и заставляет нас предвидеть возможность его продолжения до конца; само оно не заходит так далеко. Напротив, если мы рассматриваем материю, которая поначалу кажется нам совпадающей с пространством, то обнаруживаем, что чем больше наше внимание сосредоточивается на ней, тем больше части, которые мы считали рядоположенными, входят друг в друга, причем каждая из них испытывает воздействие целого, которое, следовательно, каким-то образом присутствует в ней. Итак, хотя материя развертывается в направлении пространства, она не доходит в этом до конца; отсюда можно заключить, что она только продолжает гораздо дальше то движение, зарождение которого сознание могло обрисовать в нас. Мы держим, таким образом, два конца цепи, хотя нам и не удалось захватить другие ее звенья. Всегда ли они будут ускользать от нас? Нужно иметь в виду, что философия, как мы ее определяем, еще не вполне осознала саму себя. Физика понимает свою роль, когда она толкает материю в направлении пространственности; но понимала ли свою роль метафизика, когда она просто-напросто шла по следам физики с призрачной надеждой двигаться далее в том же направлении? Не будет ли, напротив, ее подлинной задачей подняться по тому склону, по которому физика спускается, вернуть материю к ее истокам и постепенно создать космологию, которая была бы, если можно так выразиться, перевернутой психологией? Все, что кажется положительным физику и геометру, становится, с этой новой точки зрения, остановкой или нарушением истинной позитивности, которая должна определяться в понятиях психологических.
Конечно, если принять во внимание удивительный порядок в математике, полное согласие между предметами, которыми она занимается, логику, присущую числам и фигурам, нашу уверенность в том, что, как бы ни были различны и сложны наши рассуждения об одном и том же предмете, мы всегда придем к одному и тому же заключению, — то можно усомниться в том, что столь, по-видимому, положительные качества являют собой систему отрицаний, скорее отсутствие, чем наличие подлинной реальности. Но не нужно забывать, что наш интеллект, который констатирует этот порядок и им восхищается, ориентирован в том же направлении, которое приводит к материальности и пространственности его предмета. Чем больше усложнений он помещает в свой предмет при его анализе, тем сложнее порядок, который он в нем находит. И этот порядок, и эта сложность по необходимости действуют на него как позитивная реальность, ибо они одного с ним направления.
Когда поэт читает мне свои стихи, это может так затронуть меня, что я проникну в мысли поэта, в его чувства, вновь переживу то простое состояние, которое он раздробил на слова и фразы. я сопереживаю (sympatise) тогда его вдохновению, я следую за ним в непрерывном движении, которое, как само вдохновение, есть неделимый акт. Но стоит мне отвлечься, ослабить то, что было во мне напряжено, как звуки, до сих пор растворенные в смысле, предстанут передо мной раздельно, один за другим, в своей материальности. Мне не нужно ничего для этого прибавлять; достаточно, чтобы я нечто убавил. По мере того, как я отвлекаюсь, последовательные звуки все более обособляются: подобно тому, как фразы распались на слова, так и слова распадутся на слоги, которые я буду воспринимать поочередно. Пойдем еще далее в направлении грезы:
тогда уже буквы отделятся одни от других, и я увижу, как они переплетаются и дефилируют на воображаемом листе бумаги. я буду тогда восхищаться четкостью их переплетения, чудным порядком шествия, точностью, с какой буквы вписываются в слоги, слоги в слова и слова во фразы.
Чем дальше я буду продвигаться в совершенно отрицательном направлении ослабления, тем большее протяжение и усложнение буду создавать; чем больше, в свою очередь, возрастет усложнение, тем сильнее я буду восхищаться непоколебимым порядком, царящим между элементами. И все же это усложнение и протяжение не представляют ничего положительного; они отражают недостаток воли. С другой стороны, порядок должен расти вместе с усложнением, так как он является только одной из его сторон: чем больше символических частей мы замечаем в неделимом целом, тем больше увеличивается число отношений между ними, ибо одна и та же неделимость реального целого продолжает охватывать растущую множественность символических элементов, на которые разложило его ослабление внимания. Подобное сравнение в известной мере поясняет, как одно и то же уничтожение позитивной реальности, одна и та же инверсия некоторого начального движения может одновременно создать протяжение в пространстве и удивительный порядок, который открывает в нем наша математика. Конечно, между этими случаями существует то различие, что слова и буквы были изобретены разумным усилием человечества, тогда как пространство возникает автоматически, подобно остатку при вычитании, если даны два первых члена’. Но в обоих случаях бесконечное усложнение частей и их совершенная координация созданы одновременно инверсией, которая, в сущности, является остановкой, то есть уменьшением позитивной реальности.
Все операции нашего интеллекта направлены к геометрии как к пределу, где они находят свое полное завершение. Но так как геометрия им по необходимости предшествует (ибо эти операции никогда не дойдут до построения пространства и не могут не принимать его как данное), то очевидно, что главной пружиной нашего интеллекта, заставляющей его работать, является скрытая геометрия, присущая нашему представлению о пространстве. В этом убеждает исследование двух существенных функций интеллекта: дедукции и индукции.
Наше сравнение только развивает содержание термина, как понимает его Плотин. Ибо, с одной стороны, у этого философа есть сила производящая и осведомляющая, аспект или фрагмент, а с другой — Плотин иногда говорит о нем как о речи. В целом, отношение, устанавливаемое нами в данной главе между «протяжением» (extension) и «напряжением» (distension), в чем-то сходно с отношением, предполагаемым Плотином (в рассуждениях, которые, вероятно, вдохновили Равэссояа), когда он делает из протяженности, конечно, не инверсию начального Существа, но ослабление его сущности, один из последних этапов процессии (см., в частности, Епп. IV, III, 9-11 и III, VI, 17-18). Однако античная философия не замечала, какие следствия вытекали из этого для математики, ибо Плотин, как Платон, возвел математические сущности в абсолютные реальности. В особенности же эта философия позволила себя обмануть совершенно внешней аналогией длительности с протяжением. Она толковала первую так же, как вторую, считая изменение понижением неизменности, чувственное — упадком умопостигаемого. Отсюда, как мы покажем в следующей главе, явилась философия, не понимавшая реальной функции и назначения интеллекта.
Начнем с дедукции. То же движение, которым