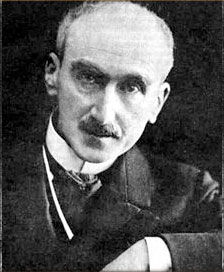с его вечностью как ее ослабление. Но принцип, к которому приводит рассмотрение универсального механизма и который должен быть субстратом последнего, конденсирует в себе уже не понятия, или вещи, но законы, или отношения. Отношение же не существует изолированно. Закон соединяет между собой меняющиеся члены; он неотделим оттого, чем управляет. Принцип, в котором все эти отношения конденсируются и который лежит в основе единства природы, не может поэтому быть трансцендентным к чувственной реальности; он присущ ей, и нужно предположить разумом, что он существует во времени и вне времени, собран в единстве своей субстанции и вместе с тем осужден развертывать ее в цепь, не имеющую ни начала, ни конца. Чтобы не формулировать столь шокирующего противоречия, философы вынуждены были пожертвовать более слабым из двух членов и считать ту сторону вещей, которая связана со временем чистой иллюзией. со временем, чистой иллюзией. Лейбниц говорит об этом в точных выражениях, ибо он делает из времени, как и из пространства, смутное восприятие. Если множественность его монад выражает только многообразие снимков, сделанных с целого, то история одной изолированной монады является для этого философа не чем иным, как множественностью снимков, которые монада может получить от своей собственной субстанции, так что время будет состоять в совокупности точек зрения каждой монады на самое себя, как пространство — в совокупности точек зрения всех монад на Бога. Мысль Спинозы гораздо менее ясна, и кажется, что этот философ пытался установить между вечностью и тем, что длится, ту же разницу, которую устанавливал Аристотель между сущностью и случайностями: предприятие самое трудное, так как не было более Аристотеля, чтобы измерять отклонение и объяснять переход от существенного к случайному, ибо Декарт его вычеркнул навсегда. Как бы то ни было, чем более исследуешь спинозистскую концепцию » неадекватного» в отношении его к » адекватному» , тем более чувствуешь, что идешь в направлении к Аристотелю, подобно тому, как монады Лейбница, по мере того, как они яснее вырисовываются, стремятся приблизиться к Умопостигаемым Плотина. Естественная склонность этих двух философских систем приводит их к заключениям античной философии.
Резюмируя, молено сказать, что сходство новой метафизики с метафизикой древних проистекает оттого, что и та и другая полагают — первая поверх чувственного, последняя в недрах самого чувственного — законченную, единую и полную Науку, с которой должна совпасть вся содержащаяся в чувственном реальность. Для той и для другой реальность, как истина, дана сполна в вечности. Та и другая отвращаются от представления реальности, созидающейся последовательно, то есть в сущности от абсолютной длительности.
Что заключения этой метафизики, вышедшей из науки, снова возвратились в науку как бы рикошетом, это можно показать без труда. Весь наш так называемый эмпиризм еще проникнут ими. Физика и химия изучают только инертную материю; биология, когда она исследует живое существо в физическом и химическом отношениях, рассматривает только одну его сторону, относящуюся к инертности. Механистические объяснения, несмотря на их развитие, охватывают только незначительную часть реального. Предположить a priori, что целостность реального может быть разложена на элементы подобного рода, или, по крайней мере, что механицизм мог бы дать цельный перевод того, что совершается в мире, значит принять определенную метафизику, ту самую, принципы которой и следствия из них были определены такими философами, как Спиноза и Лейбниц. Конечно, психофизиолог, признающий полную эквивалентность между мозговым состоянием и состоянием психологическим, представляющий себе возможность для какого-нибудь сверхчеловеческого интеллекта читать в мозгу то, что происходит в сознании, мнит себя весьма далеким от метафизиков XVII века и очень близким к опыту. Но простой и чистый опыт не говорит нам ничего подобного. Он показывает нам взаимную зависимость между физическим и духовным, необходимость известного мозгового субстрата для психологического состояния и ничего более. Из того, что один член солидарен с другим, не следует, чтобы между ними была эквивалентность. Из-за того, что определенная гайка необходима для какой-нибудь машины, что машина действует с этой гайкой и останавливается, когда ее убирают, не скажут, что гайка эквивалентна машине. Чтобы зависимость обратилась в эквивалент, нужно, чтобы каждая часть машины соответствовала определенной части гайки, подобно тому, как в дословном переводе каждая глава соответствует главе, каждая фраза — фразе, слово — слову. Но отношение между мозгом и сознанием оказывается, по-видимому, совсем иным. Не только гипотеза об эквивалентности между психологическим состоянием и состоянием мозговым включает настоящую нелепость, как мы пытались это показать в предыдущем труде, но если обратиться к фактам без предвзятой мысли, то окажется, что отношения между этими состояниями как раз такие, как между машиной и гайкой. Говорить об эквивалентности между двумя членами значит просто извращать метафизику Спинозы или Лейбница, делая ее почти непостижимой для разума. Принимая эту философию таковой, какова она есть, в отношении Протяженности, ее искажают со стороны Мысли. Благодаря Спинозе и Лейбницу объединяющий синтез явлений материи предполагается законченным: все объясняется механически. Но для фактов сознания синтез не доводится до конца. Останавливаются на полдороге. Сознание предполагается совпадающим с той или иной частью природы, а не со всей природой. И приходят, таким образом, или к «эпифеноменизму», связывающему сознание с известными специальными вибрациями и размещающему его в мире спорадически, то там, то здесь, или к «монизму», рассеивающему сознание на столько пылинок, сколько существует атомов. Но в том и в другом случае возвращаются к неполному спинозизму или лейбницианству. Между этой концепцией природы и картезианством можно найти исторических посредников. Медики-философы XVIII века с их суженным картезианством сыграли большую роль в зарождении современного «эпифеноменизма» и современного «монизма».
Эти доктрины являются, таким образом, запоздалыми по сравнению с Кантовой критикой. Конечно, философия Канта также пропитана верой в единую и цельную науку, охватывающую всю совокупность реального. Даже если рассматривать ее с известной стороны, она является только продолжением современной метафизики и повторением метафизики античной. Спиноза и Лейбниц, по примеру Аристотеля, гипостазировали в Боге единство знания. Критика Канта, по крайней мере, одной из своих сторон, состояла в том, чтобы поставить вопрос: необходима ли для современной науки эта гипотеза во всем ее объеме, как она была необходима для науки античной, или достаточно только одной ее части. У древних действительно наука имела дело с понятиями, то есть с родами вещей. Уплотняя все понятия в одно, они, таким образом, с необходимостью приходили к бытию, которое можно было, без сомнения, назвать Мыслью, но которое скорее было мыслью-объектом, чем мыслью-субъектом. Бог был синтезом всех понятий, идеей идей. Современная наука вращается вокруг законов, то есть вокруг отношений. Отношение же есть связь, устанавливаемая разумом между двумя или несколькими членами. Но отношение без привносящего его интеллекта — ничто. Вселенная может быть поэтому системой законов только в том случае, если явления фильтруются через интеллект. Без сомнения, этот интеллект мог бы быть интеллектом существа бесконечно высшего сравнительно с человеком, которое основывало бы материальность вещей, соединяя их в то же время между собой: такова была гипотеза Лейбница и Спинозы. Но нет надобности идти так далеко, и для действия, которое нужно здесь получить, достаточно человеческого интеллекта: таково и есть кантианское решение. Между догматизмом Спинозы или Лейбница и кантовской критикой существует то же расстояние, как между «нужно, чтобы…» и «достаточно, чтобы…» Кант останавливает этот догматизм на склоне, уводившем его слишком далеко по направлению к греческой метафизике: он сводит к строгому минимуму гипотезу, и это необходимо для того, чтобы считать физику Галилея бесконечно расширенной. Правда, когда он говорит о человеческом интеллекте, то дело идет не о вашем или моем интеллекте. Единство природы является от человеческого разума, который объединяет, но объединительная функция здесь будет безличной. Она сообщается с нашими индивидуальными сознаниями, но она их превосходит. Она гораздо меньше, чем субстанциальный бог, но она все же немного больше, чем изолированная деятельность человека и даже коллективная деятельность всего человечества. Она не составляет собственно части человека; скорее человек находится в ней, как в атмосфере интеллектуальности, вдыхаемой его сознанием. Это, если угодно, формальный Бог, нечто такое, что у Канта не является еще божественным, но стремится им стать. Он выявился с Фихте. Как бы то ни было, главная роль этой объединительной функции разума у Канта — это придавать нашей совокупной науке относительный и человеческий характер, хотя эта человечность и является несколько обожествленной. Критика Канта, рассматриваемая с этой точки зрения, состояла главным образом в том, чтобы ограничить догматизм своих предшественников, принимая их концепцию науки и сводя к минимуму то, что было в ней от метафизики.
Но получится совсем иное, если мы обратимся к различию, делаемому Кантом между материей познания и ее формой. Видя в интеллекте прежде всего способность устанавливать отношения. Кант приписывал членам, между которыми устанавливаются отношения, происхождение в не интеллектуальное. Он утверждал, вопреки мнению своих непосредственных предшественников, что познание не может быть целиком разложено на интеллектуальные отношения. Он возвратил философии тот существенный элемент философии Декарта, который был отринут картезианцами, но изменил его и перенес в другой план.
Этим он расчистил путь для новой философии, которая могла бы проникнуть во внеинтеллектуальную материю познания путем высшего усилия интуиции. Совпадая с этой материей, принимая тот же ритм и то же движение, не могло ли бы сознание путем двух усилий, обратных одно другому по направлению, по очереди то поднимаясь, то опускаясь, схватывать изнутри, а не видеть извне, две формы реальности — тело и дух? Не помогало ли нам это двойное усилие по мере возможности оживлять абсолютное? Так как при этом во время такой операции можно было бы видеть, как интеллект возникает сам собой, как выделяется он из духа как целого, то интеллектуальное познание явилось бы тогда таковым, каково оно есть, — ограниченным, но не относительным.
Таково направление, которое могло указать кантианство вновь ожившему картезианству. Но сам Кант не пошел по этому пути.
Он не захотел по нему идти, так как, назначая познанию внеинтеллектуальную материю, он считал эту материю или коэкстенсивной интеллекту, или более узкой, чем интеллект. Вот почему он уже не мог более ни думать о том, чтобы выкраивать из нее интеллект, ни, следовательно, воспроизводить его генезис и генезис его категорий. Рамки интеллекта и сам интеллект должны были быть приняты таковыми, каковы они есть, вполне готовыми. Между материей, являющейся перед нашим интеллектом, и самим этим интеллектом не было никакого родства. Согласие между ними являлось оттого, что интеллект придавал материи свою форму. Так что не только надо было полагать интеллектуальную форму